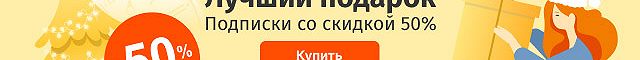
В работах Вл. Соловьева, К. Леонтьева и Н. Страхова, по существу, была поставлена проблема конфессиональной определенности религиозных взглядов Достоевского. К этой теме в той или иной мере возвращались В. Розанов, Н. Бердяев и Д. Мережковский. Л. Шестов отмечал, что писатель был проповедником не христианства, а православия. Для многих русских читателей романы Достоевского являлись источниками православной веры.
<…>
Богословом в прямом смысле слова Достоевский не был, и, более того, с канонической точки зрения он, может быть, и недостаточно православный писатель. Он был прежде всего светским религиозным мыслителем, опережавшим современное ему богословие постановкой важнейших для его развития проблем. Так, в русском православном богословии XIX века не была еще развита библейская экзегеза и только начинала складываться своя экзегетическая традиция. Не был поставлен в православном богословии и библейский вопрос. Вопрос о Боге стал, по существу, определяющим в религиозных исканиях Достоевского и его героев [ЗВОЗНИКОВ. С. 178, 181].
Достоевский, вне всякого сомнения, относится к числу выдающихся религиозных мыслителей Новейшего времени. По мнению Николая Бердяева:
Толстой всю жизнь искал Бога, как ищет его язычник, природный человек, от Бога в естестве своем далекий. Его мысль была занята теологией, и он был очень плохой теолог. Достоевского мучит не столько тема о Боге, сколько тема о человеке и его судьбе, его мучит загадка человеческого духа. Его мысль занята антропологией, а не теологией. Он не как язычник, не как природный человек решает тему о Боге, а как христианин, как духовный человек решает тему о человеке. Поистине, вопрос о Боге – человеческий вопрос. Вопрос же о человеке – божественный вопрос, и, быть может, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую, чем через природное обращение к Богу вне человека. Достоевский не теолог, но к живому Богу он был ближе, чем Толстой. Бог раскрывается ему в судьбе человека[61].
Для богословов консервативного направления Достоевский, страстно любящий Христа как идеал человеческой личности и человечности в целом[62], но по существу игнорирующий его Божественную природу со всеми ее атрибутами, включая Чудо Воскресения – явно не канонически мыслящий православный. Хотя официально современные Достоевскому богословы декларировали, что:
В действительности он был просто – русский православный христианин, и православие, как самобытно-русский просвещающийся во Христе Боге дух поставил, и необычайное величие в нашем православии показал, отметив в нем такие стороны, каких никто раньше его не коснулся, и поставив в художественных образах такие философские и религиозные проблемы, над которыми долго-долго будут думать философ, художник, ученый, мыслитель [КУНИЛЬСКИЙ. С. 421, 424],
– некоторые из них высказывали критические суждения касательно его ортодоксальности. Например, в записках литератора Е.Н. Опочинина цитируется высказывание священника отца Алексия:
Вредный это писатель! <…> И хуже всего то, что читатель при всем том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, и все его углубления (sic!) суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие [ОПОЧИНИН].
В «Летописи жизни и творчества Ф.М. Достоевского» приводится сообщение из журнала «Искра» (№ 36–37 от 17июня 1873 года) о том, что в некоей духовной семинарии «ректор застал одного семинариста за чтением “Идиота” Достоевского <…> и нашел такое чтение соблазнительным». Имеются свидетельства о трудностях, на которые натолкнулось намерение А.Г. Достоевской, похоронить мужа на монастырском кладбище – см. [ВОЛГИН (II). С. 490–495].
Тем не менее, мировоззренческие идеи Достоевского вместе с совершенно неприемлемыми с точки зрения церковной ортодоксии воззрениями Льва Толстого, легли в основу философии русского христианского персонализма – Н. Бердяев, о. С. Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Л. Шестов и др., а также оказали влияние на становление самого значительного направления философской мысли ХХ в. – экзистенциализма[63].
У истоков экзистенциализма стоит датский мыслитель Сёрен Кьеркегор (Киргегард), хотя он не использовал этот термин, введенный впервые в научный оборот Карл Ясперсом в его в работе «Духовная ситуация времени» (1931). Но уже 5 мая 1935 г., в докладе «Киргегард и Достоевский», прочитанном в религиозно-философской Академии[64], русский философ-персоналист Лев Шестов убедительно показал, что Достоевский, бывший младшим современником великого датчанина, является вместе с ним родоначальником этого направления философской мысли.
Киргегард, как и Достоевский, оба родившиеся в первой четверти XIX столетия (только Киргегард, умерший на 44 году и бывший старше Достоевского на десять лет, уже закончил свою литературную деятельность, когда Достоевский только начинал писать) и жившие в ту эпоху, когда Гегель был властителем дум в Европе <…>, видели свою жизненную задачу в борьбе и преодолении того строя идей, который гегелевская философия как итог развития европейской мысли воплотила в себе. Для Гегеля разрыв естественной связи явлений, знаменующий собой власть Творца над миром и его всемогущество, – невыносимая и самая страшная мысль: это есть для него «насилие над духом». Он высмеивает библейские повествования – все они принадлежат к «истории», говорят только о «конечном», которое человек, желающий жить в духе и истине, должен стряхнуть с себя. Это он называет «примирением» религии и разума, таким образом религия получает свое оправдание через философию, которая усматривает в многообразии религиозных построений «необходимую истину» и в ней, в этой необходимой истине, открывает «вечную идею». Несомненно, что разум получает таким образом полное удовлетворение. Но что осталось от религии, оправдавшейся таким образом перед разумом? Несомненно тоже, что, сведя содержание «абсолютной религии» к единству божественной и человеческой природы, Гегель, и всякий, кто за ним шел, становился «знающим», как обещал Адаму искуситель, соблазнявший его плодами с запретного дерева, – т. е. обнаружил в Творце ту же природу, которая ему открыта в его собственном существе. Но затем ли мы идем к религии, чтобы приобрести знание? <…>
Киргегард тоже учился у древних и в молодости был страстным поклонником Гегеля. И лишь тогда, когда, по воле судьбы, он почувствовал себя целиком во власти той необходимости, к которой так жадно стремился его разум, – он понял глубину и потрясающий смысл библейского повествования о падении человека. Веру, определявшую собой отношение твари к Творцу и знаменовавшую собой ничем не ограниченную свободу и беспредельные возможности, мы променяли на знание, на рабскую зависимость от мертвых и мертвящих вечных принципов. Можно ли придумать более страшное и более роковое падение? И тогда Киргегард почувствовал, что начало философии – не удивление, как учили греки, а отчаяние <…>. И что у «частного мыслителя» Иова можно найти такое, что не приходило на ум прославленному философу и знаменитому профессору. В противоположность Спинозе и тем, кто до и после Спинозы искал в философии «понимания» (intelligere) и возводил человеческий разум в судьи над самим Творцом, Иов своим примером учит нас, что, чтоб постичь истину, нужно не гнать от себя и не возбранять себе «lugere et detestari» <«плакать и проклинать» (лат. >, a из них исходить. Знание, т. е. готовность принять за истину то, что представляется самоочевидным, т. е. то, что усматривается «открывшимися» у нас после падения глазами (<…> у Гегеля – «духовное» зрение), неизбежно ведет человека к гибели. «Праведник жив будет верой», – говорит Пророк, и Апостол повторяет за ним эти слова. «Все, что не от веры, есть грех» – только этими словами мы можем защищаться от искушения «будете знающими», которым прельстился первый человек и во власти которого находимся мы все. Отвергнутым умозрительной философией «lugere et detestari», плачу и взыванию Иов возвращает их исконные права: права выступать судьями, когда начинаются изыскания о том, где истина и где ложь. «Человеческая трусость не может вынести того, что нам рассказывают безумие и смерть», и люди отворачиваются от ужасов жизни и довольствуются «утешениями», заготовленными философией духа. «Но Иов, – продолжает Киргегард, – доказал широту своего мировоззрения той непоколебимостью, которую он противопоставил ухищрениям и коварным нападкам этики» (т. е. философии духа: друзья Иова говорили ему то же, что впоследствии возвестил Гегель в своей «Философии духа». И еще: «величие Иова в том, что пафос его нельзя разрядить и удушить лживыми посулами и обещаниями» (все той же философией духа). И, наконец, последнее: «Иов благословен. Ему вернули все, что у него было. И это называется повторением. Когда наступает повторение? На человеческом языке этого не скажешь: когда всяческая мыслимая для человека несомненность и вероятность говорит о невозможном».
<…> Соответственно этому для Киргегарда «понятие, противоположное греху, есть не добродетель, а свобода» и тоже «противоположное понятие греху есть вера». Вера, только вера освобождает от греха человека; вера, только вера может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием после того, как он отведал плодов с запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтобы глядеть в глаза смерти и безумию и не склоняться безвольно пред ними. «Представьте себе, – пишет Киргегард, – человека, который со всем напряжением испуганной фантазии вообразил себе нечто неслыханно ужасное, такое ужасное, что вынести его совершенно невозможно. И вдруг это ужасное встретилось на его пути, стало его действительностью. По человеческому разумению – гибель его неизбежна… Но для Бога – все возможно. В этом и состоит борьба веры: безумная борьба о возможности. Ибо только возможность открывает путь к спасению… В последнем счете остается одно: для Бога все возможно. И тогда только открывается дорога вере. Верят только тогда, когда человек не может уже открыть никакой возможности. Бог значит, что все возможно, и что все возможно – значит Бог. И только тот, чье существо так потрясено, что он становится духом и постигает, что все возможно, только тот подошел к Богу». Так пишет Киргегард в своих книгах, то же непрерывно повторяет он и в своем дневнике.
И тут он до такой степени приближается к Достоевскому, что можно, не боясь упрека в преувеличении, назвать Достоевского двойником Киргегарда. Не только идеи, но и метод разыскания истины у них совершенно одинаковы и в равной мере не похожи на то, что составляет содержание умозрительной философии. От Гегеля Киргегард ушел к частному мыслителю – Иову. То же сделал и Достоевский. Все эпизодические вставки в его больших романах – «Исповедь Ипполита» в «Идиоте», размышления Ивана и Мити в «Братьях Карамазовых», Кириллова – в «Бесах», его «Записки из подполья» и его небольшие рассказы, опубликованные им в последние годы жизни в «Дневнике писателя» («Сон смешного человека», «Кроткая»), – все они, как у Киргегарда, являются вариациями на темы «Книги Иова» [ШЕСТОВ (II)].
Однако в России XIX в. ведущими мировоззренческими направлениями являлись сначала шеллингианство, а затем и гегелевская философия, в самых разных ее модификациях – вплоть до марксизма. Николай Страхов, сильно повлиявший на становление мировоззрения Достоевского:
На гегелевскую философию <…> смотрел, как на завершение того мышления, которое стремится к органическому пониманию вещей. Гегель «возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемом основании, и если его система должна бороться с различными мнениями, то именно потому, что все эти мнения односторонни, исключительны». Несмотря на это, Страхова нельзя назвать гегельянцем в тесном смысле этого слова: он преклонялся перед немецкой идеалистической философией вообще, в которой видел синтез религиозного и рационалистического элементов [ «Страхов (Николай Николаевич)» ЭСБЭ. Т. 62].
Достоевский, свободно владевший немецким, в частности был хорошо знаком трудами Канта. Яков Голосковер в своей книге «Достоевский и Кант» показывает, насколько «проницательно» читал писатель немецкого философа. Анализируя роман «Братья Карамазовы», он представляет его
не только в фабульном (читательском) плане, но и в плане скрытом (авторском), т. е. в подтексте. <Подтекст в свою очередь> раскрывается им одновременно и как полемика писателя Достоевского с философом Кантом, и как непрерывный поединок между героями романа, и как поединок между персонифицированными Достоевским в романе положениями Канта об антиномиях, именуемыми Кантом «тезис» и «антитезис». И даже там, где у Достоевского и Канта точки зрения как будто совпадают, всеобщий поединок не только не прекращается, а разгорается с новой силой, ибо утверждение Достоевского, что в жизни «все противоречия вместе живут», никогда не теряло для него своей остроты [ГОЛОСКОВЕР. С. 3].
Что касается таких близких в мировоззренческом отношении Достоевскому философов, как Шопенгауэр и Ницше, то в его эпоху они были известны лишь узкому кругу русских интеллектуалов (в частности, например, тому же Страхову, а также Льву Толстому). Не удивительно, что философские откровения Достоевского воспринимались большинством современников как интеллектуальные парадоксы: что, отметим, для гегельянства неприемлемо, а для экзистенциализма – закономерно. Однако же концепция «почвенности», выдвинутая Достоевским, в свете гегелевской «диалектической триады» [65] представляется закономерным результатом опосредования (разрешения в синтезе) борьбы противоположностей типа «славянофильство» – «западничество». Как отмечает Николай Бердяев:
Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат преодолению, но оба направления пойдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении (Aufhebung у Гегеля) [БЕРДЯЕВ (II)].
Интересно, опять-таки как парадокс, восприятие творчества Достоевского его хорошим знакомым Константином Леонтьевым – мыслителем, известным своей правоконсервативной реакционностью. В письме к В.В. Розанову от 8 мая 1891 г. (Оптина Пустынь) он, например, утверждал, что:
У него <Достоевского> взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего старикашки [Пер К.Н.Л.-В.В.Р.],
– а в другом письме к нему же, ссылаясь на Владимира Соловьева, заявлял, что:
Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел.
Впрочем, современные российские комментаторы убеждены, что приводимое Константином Леонтьевым соловьевское высказывание на самом деле ему не принадлежит, т. к.
диаметрально противоположно по смыслу более ранним его «Трем речам в память Достоевского» и его же «Заметке в защиту Достоевского от обвинения в “новом” христианстве» (Русь. 1883. № 9) по поводу труда К.Н. Леонтьева «Наши новые христиане…», в которых Соловьев, наоборот, утверждал, что Достоевский всегда стоял на «действительно религиозной почве». <…> «по-видимому, сведения, исходящие от Леонтьева, требуют осторожного отношения ввиду того, что из-за присущей ему странной захваченности в любом принципиальном споре он часто переакцентирует и перекраивает сообщаемые факты и мнения <…>. Подобные казусы заставляют предположить, что Леонтьев столь же произволен, когда он сообщает высокомерный отзыв Соловьева о религиозности Достоевского, будто бы содержащийся в одном из писем Соловьева, которое Леонтьев цитирует явно по памяти и без указания даты[66].
Сам факт дружбы и горячей взаимной симпатии христианского антисемита Достоевского и христианского филосемита В.С. Соловьева в контексте нашей темы исключительно интересен. Он в частности косвенно свидетельствует об отсутствии должного «фанатизма» (самоопределение К. Леонтьева в одном из писем его о встрече и беседе со Л. Толстым о вере и православии в Оптиной пустыни[67]) у Достоевского в еврейском вопросе, т. к. Вл. Соловьев был убежденным филосемитом. Впоследствии Вл. Соловьев при всем своем благоговении перед личностью Достоевского являлся одним жестких критиков его национализма и антисемитских воззрений [ТЕСЛЯ (IV)].
Все годы общения писатель относился к Вл. Соловьеву с большой теплотой. По словам Анны Григорьевны Достоевской лицо молодого философа напоминало её мужу любимую им картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи. Согласно преданию духовный облик Владимира Соловьёва отразился в образе Алёши Карамазова, любимого героя Достоевского [ВОЛГИН (II). С. 69].
Знакомство Соловьева с Достоевским состоялось в начале 1873 г. <…> Жена писателя А.Г. Достоевская вспоминает: «В эту зиму <1873 г.> нас стал навещать Владимир Сергеевич Соловьев, тогда еще очень юный, только что окончивший свое образование. Сначала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем, по приглашению его, пришел к нам. Впечатление он производил тогда очаровывающее, и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность.
<…> «Начиная с 1873 г. вплоть до кончины писателя Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигура <…>. Сфера человеческих отношений, объединяющая Достоевского и Соловьева, – это столько же литературно-общественные салоны с их благотворительными вечерами и необязательным интересом к высшим предметам, сколько целеустремленный мир идейной молодежи, часть которой в эти годы увидела реальное жертвенное дело в помощи славянам, страдающим под турецким владычеством…».
Достоевский, несомненно, оценил натуру Соловьева, его бескорыстие, беззаветную преданность высоким христианским идеалам, однако излишняя отвлеченность его религиозного учения вызвала у бывшего каторжанина дружескую шутку.
Уже в первый год знакомства Соловьев вошел в постоянное окружение Достоевского, что видно из письма Соловьева к Достоевскому от 23 декабря 1873 г.: «Милостивый Государь многоуважаемый Федор Михайлович, собирался сегодня заехать проститься с Вами, но, к величайшему моему сожалению, одно неприятное и непредвиденное обстоятельство заняло все утро, так что никак не мог заехать. Вчера, когда Н.Н. Страхов нашел Вашу записку на столе, я догадался, что это вас я встретил на лестнице, но по близорукости и в полумраке не узнал. Надеюсь еще увидеться; впрочем, осенью буду в Петербурге. С глубочайшим уважением и преданностью остаюсь Ваш покорный слуга Вл. Соловьев. Передайте мое почтение Анне Григорьевне».
<…>
О проекте
О подписке
Другие проекты