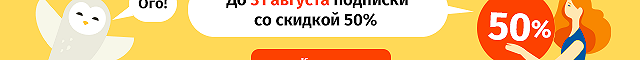
О французском и итальянском вежестве
Судя по свидетельству Таллемана де Рео, немалую роль в отказе госпожи де Рамбуйе от придворной жизни сыграло ее итальянское воспитание. Ее мать «нарочно говорила с дочерью по-итальянски, дабы та одинаково владела и этим языком, и французским». Что касается дворцовых приемов, то маркиза уже в молодости «говорила, что не видит ничего привлекательного в том, чтобы наблюдать, как люди толпятся у дверей, стремясь туда попасть, и ей случалось иной раз уходить в дальнюю комнату, дабы посмеяться над дурными порядками, существующими на этот счет во Франции»[22].
Сделаем небольшое историческое отступление. В XVI – начале XVII века невежество французской знати было одним из общих мест эпохи. Так, в 1528 г. Бальдассаре Кастильоне писал:
Кроме добродетельности, главным и истинным украшением души каждого, я полагаю, является образованность. Хотя французы благородным признают одно лишь военное дело, все же прочие занятия не ставят ни во что. Поэтому они не только не ценят науки, но, напротив, гнушаются ими, а всех образованных считают людьми низкими[23].
Эти слова можно было бы отнести на счет национальных стереотипов, когда бы в «Комической истории Франсиона» (1623) им столетие спустя не вторил парижанин Шарль Сорель. По его наблюдениям, французские придворные, «будучи крайне невежественными», «не только питали отвращение к наукам, но и не могли видеть ни одной бумажонки, которая бы им не претила и не побуждала их к насмешкам»[24]. Образованность несла на себе отпечаток профессионализма, то есть буржуазности. Она была необходима тем, кто был связан с административным управлением, а также юристам, финансистам, коммерсантам и части духовенства. Занятием благородного человека была война.
Рейнир ван Персейн по оригиналу Рафаэля Санти.
Портрет Бальдассаре Кастильоне. 1639–641
Конечно, не все было столь однозначно. Франциск I покровительствовал наукам и искусствам и в пику Сорбонне основал Коллеж де Франс (1530), призванный стать моделью нового, более светского типа образования. Как напоминает в «Принцессе Клевской» госпожа де Лафайет, по-своему утонченным был двор его сына, Генриха II. Но религиозные войны второй половины XVI века положили конец культурной политике дома Валуа; потребовалось почти столетие, чтобы королевский двор снова начал играть роль законодателя вкуса. Этим, кстати, объясняется сходство отзывов Кастильоне и Сореля: один еще не успел оценить подъем французской придворной культуры, другой констатировал ее (временный) упадок.
Сословные предрассудки сами по себе не способны объяснить презрение к учености: итальянцы кичились знатностью не меньше французов, тем не менее для них в XVI веке хорошее образование стало одним из желательных и даже необходимых атрибутов благородства. В терминах «аналогии с драмой» можно сказать, что в Италии того времени уже произошло расширение ролевого репертуара, в то время как во Франции превалировало еще средневековое представление об общественных функциях человека. Как показал Жорж Дюби, эпоха раннего Средневековья знала деление на мирян и духовенство, на воинов и мирных людей. Эти категории были открытыми и взаимопроникающими. Но к IX–X векам под влиянием целого ряда причин, в том числе из-за ослабления королевской власти, в Европе постепенно сформировалась новая система взаимоподчинения. Будучи основана на силе, она стирала разницу между свободными крестьянами и рабами, равно подчиняя их хозяину замка. И углубляла различие между носившими и не носившими оружие, которое все чаще обращалось не против внешнего врага, а против окрестных жителей. Так складывалось сословие рыцарей, лишь номинально подчинявшееся королевской власти. Тогда же была сформулирована концепция трех порядков, или трех сословий (первое составляли молящиеся, второе – сражающиеся, третье – пашущие), призванная освятить иерархическую структуру мирского общества (мирская иерархия отражала небесную, ибо равенство не мыслилось и между ангелами). Такой взгляд на устройство социума исповедовали епископы, стремившиеся поддержать светское государство, меж тем как идеология рыцарства, скорее, сближала его с монашеством. По мнению адептов трехчастного деления общества, спасение души состояло в том, чтобы каждый оставался на месте, определенном ему Господом, и хорошо исполнял свой долг, не пытаясь присвоить себе чужие добродетели[25]. Не случайно, что средневековая культура не знала драматического театра, а лишь мистериальный. Ей осталась чужда театральность, связанная с исполнением человеком не своей роли, с нарушением заведенного порядка.
Когда французское дворянство с презрением отвергало ученость, то в этом можно усмотреть нежелание присваивать чужие добродетели и в каком-то смысле смешивать разные жизненные роли. Вплоть до начала XVII века оно действительно оставалось военным сословием. Этому способствовала слабость королевской власти и, соответственно, неэффективность двора, который из места пребывания короля еще не превратился в политический институт. Иначе обстояло дело в Италии, разбитой на небольшие государства, отношения между которыми варьировались от прямой вражды до скрытого соперничества. И без того непростое положение вещей усложняли территориальные притязания Испании и Франции. Такая политическая ситуация требовала не только военной силы, но и искусной дипломатии. Здесь стоит вспомнить (печально) знаменитый пассаж из «Государя», где Макиавелли советовал властителю сочетать в себе качества льва и лисы: «…надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подобен льву, может не заметить капкана»[26]. Заметим, речь не о том, что лисе надо прикидываться львом, или наоборот, а о соединении в человеке двух равноправных сущностей. В зависимости от обстоятельств властитель должен будить в себе то льва, то лису:
Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым – и быть таким в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимым[27].
Это двуличие – не притворство; Макиавелли намеренно подчеркивает реальность как положительных, так и отрицательных качеств. Перед нами предельно жесткое соединение двух ролей, причем переход от одной к другой чисто ситуативен и не подразумевает психологических (тем более моральных) обоснований.
Двойственность государя – а Макиавелли не устает напоминать, что в первую очередь имеет в виду новых правителей, недавно пришедших к власти, – соответствует функциональной гибкости всего правящего сословия. Ярким тому свидетельством может служить биография уже упомянутого графа Бальдассаре Кастильоне, который, как подобало дворянину, был военным, однако не меньше сил отдал дипломатическому поприщу. Ему же принадлежит известный трактат «Придворный», написанный в 1507–1516 гг. и впервые опубликованный в 1528 г. В сущности, книги Макиавелли и Кастильоне образуют своеобразный диптих. Но если бывшего секретаря второй канцелярии больше волновали глобальные политические проблемы и в конечном счете объединение Италии, то дипломат был озабочен взаимоотношениями государя и его непосредственного окружения. Как подчеркивает Карло Оссола, Кастильоне стремился сформировать придворного, который был бы способен сформировать государя[28].
С точки зрения Кастильоне, для придворного прежде всего важно происхождение, поскольку благородная кровь дает дополнительный символический капитал в виде известного имени и репутации. Человек незнатный может обладать самыми высокими качествами, но ему придется потратить больше сил, чтобы их обнаружить, и общество в целом отнесется к нему с меньшим доверием, чем к дворянину, несущему двойную ответственность перед своими предками и потомками. Иными словами, благородное происхождение служит залогом относительной предсказуемости образа действий придворного, тогда как отсутствие благородства дает ту степень свободы, которая в первую очередь опасна для властителя.
Кроме того, придворный должен быть наделен физической силой и ловкостью, умением владеть разными видами оружия, ибо его основное призвание – война. В этом Кастильоне единодушен с Макиавелли, который полагал, что «государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки»[29]. Однако если у государя приверженность военному делу обусловлена политической необходимостью, то у придворного она имеет двойное обоснование: благородный человек обязан быть воином и в силу происхождения, и в соответствии с потребностями государства. В этом смысле государь заинтересован в том, чтобы его окружали люди благородные, для которых война – естественное занятие.
Но воинское призвание придворного не должно проявляться во всех его действиях, которым следует быть свободными от аффектации:
Насколько привлекательнее и уважаемее дворянин, что носит оружие, но при этом прост, скромен в речах и не кичлив, нежели другой, который только и знает хвалить себя да, изрыгая угрозы и ругательства, делать вид, что бросает вызов всему миру![30]
Нельзя не заметить, что похвальба, ругательства и показная воинственность – типичные черты маски Капитана из комедии дель арте. Вот как ее описывает в своей комедии «Ярмарка» (1618) Микеланджело Буонаротти Младший:
…Смотрите,
Как Капитан Кордон стоит заносчив.
Нога вперед; как черные усища
Закручены свирепо —
Знак кровожадности и бессердечья;
Он руку левую на портупее
Все держит наготове, чтобы правой
Извлечь свой меч и горы
Перерубить, проникнуть в преисподню.
Рога Плутону срезать и, схвативши
Его за хвост и обмакнув, как в луже,
В болоте Стикса, тут же
Живого и сырым сглотнуть…[31]
Помимо гипертрофированной демонстрации отваги, поведение Капитана отличается неуместностью. Он хвастается перед теми, кто для него не представляет угрозы, и избегает ситуаций, которые могли бы закончиться поединком. Аналогичным образом кичливый придворный у Кастильоне не соизмеряет свое вербальное поведение с конкретными обстоятельствами:
Мы не желаем 〈…〉, чтобы он [Придворный] держал себя надменно, все время бравируя словами вроде «броня – моя жена» и бросая вызывающе дерзкие взгляды, которые, как мы видели не раз, способен изобразить [шут] Берто. К подобным людям вполне подходят слова, остроумно адресованные одной достойной дамой в благородном обществе некоему сеньору 〈…〉: оказывая ему честь, она его пригласила танцевать, но он отказался от этого, а также от предложения послушать музыку и от многих других развлечений и все повторял, что такие безделицы – не его занятие; дама наконец не выдержала:
– Какое же занятие ваше?
Он ответил:
– Война.
Дама сразу нашлась что сказать:
– Поскольку, я полагаю, нынче вы не на войне и не собираетесь сражаться, то было бы прекрасно, если бы вы велели хорошо себя смазать и вместе со всеми вашими воинскими доспехами упрятать в чулан до той поры, пока в вас не будет нужды, дабы не покрыться ржавыми пятнами еще сильнее, чем сейчас[32].
Остроумный ответ дамы подчеркивает отсутствие ролевой гибкости у ее собеседника. Он не в силах выйти за пределы своей прямой функции, которая здесь превращается в театральную маску. Подобно марионетке, вояка должен быть убран в чулан вместе с доспехами вплоть до того момента, когда сюжетные перипетии – война – потребуют его присутствия.
Кичливому воину недостает того, что Макиавелли назвал внутренней готовностью проявлять диаметрально противоположные качества. Именно поэтому он оказывается похож на маску комедии дель арте, чей характер остается неизменным в любых обстоятельствах. Говоря современным языком, ему недостает психологической глубины – способности быть не только воином, но и человеком. Такое противопоставление социальной функции и общечеловеческих ценностей само по себе является признаком расширения репертуара жизненных ролей. Причем не исключено, что в сильной позиции здесь находятся не общечеловеческие качества (в первую очередь перед нами человек, а уже затем воин, дипломат и пр.), а наоборот. Быть воином – не только сословная, но и духовная обязанность дворянина, его религиозный долг. Становясь придворным, он не отказывается от воинского призвания, которое по-прежнему остается его высшим предназначением. Однако ему приходится затушевывать, маскировать внешние признаки своей истинной функции. Таким образом, для благородного человека придворная жизнь в буквальном смысле слова связана с самоотречением, с необходимостью стать кем-то другим.
Здесь стоит обратить внимание на развлечения, которые дама предлагала своему несговорчивому собеседнику. В первую очередь это танцы и музыка. Действительно, по мнению Кастильоне, придворный должен уметь танцевать, петь и играть на нескольких инструментах. Такого рода навыки были традиционно связаны с женским воспитанием, чем объясняется нежелание воина заниматься подобными «безделицами». Однако по своей природе двор – потенциально женское пространство, хотя бы потому, что его ядром является «дом» правителя, а внутренний домашний уклад обычно ассоциируется с женской сферой деятельности, тогда как жизнь за стенами дома – с мужской. Вступая в пространство двора, придворный вынужденно преображается в андрогинное существо, соединяющее в себе качества мужчины и женщины, того, кто умеет сражаться, и той, что умеет угождать. Не случайно, что в портрете Кастильоне, написанном Рафаэлем в 1515–1516 гг., были подчеркнуты именно андрогинные черты. Ведь, как думали современники и как признавал сам дипломат, образцом для идеального придворного служил он сам: «…говорят, что я хотел изобразить себя самого, и 〈…〉 что все свойства, которыми я наделяю Придворного, заключены во мне»[33]. Портрет Рафаэля указывал на эту двойственность, где сквозь конкретные черты проглядывал идеальный тип со всей его идеологической двусмысленностью.
Естественно, что самоотречение придворного имеет ярко выраженный политический смысл: тем самым он показывает правителю свою готовность подчиниться. Как отмечал Карло Оссола, с этой точки зрения трактат Кастильоне написан отнюдь не ради выгоды придворного. Овладевая арсеналом «женской» социабельности, где важную роль играли музыка, танцы и светские игры, придворный «цивилизовался», однако оборотной стороной этого процесса была его «феминизация». Напротив, для женского окружения правителя жизнь при дворе предоставляла возможность большего приобщения к сферам «мужской» компетенции. Как известно, сюжетной канвой для «Придворного» служит светская игра, в которой участвуют приближенные герцога урбинского Гвидобальдо Монтефельтро и придворные дамы его супруги, Елизаветы Гонзага. Они перебирают разные темы для разговора – достоинства и недостатки любимой особы, зачатки одержимости в каждом человеке, удовольствие от любовных ссор и их причины – и в конце концов решают составить портрет совершенного придворного. Список отвергнутых предложений позволяет нам лучше понять, почему Кастильоне именовал это занятие игрой. Очевидно, что по сути это – риторическое упражнение, апеллирующее к навыкам публичной речи, прививаемым мужским образованием. Однако, в отличие от настоящих диспутов, его предметом служат не насущные проблемы политической или духовной жизни, а психологические тонкости отношений. Это занятие можно уподобить популярным в ту эпоху «каруселям» – парадным турнирам, чьи участники показывали свою ловкость в обращении с оружием и верховой езде, но не вступали в настоящие поединки. Совершенство техники при отсутствии практических целей – таково определение светской игры.
Вернемся к кичливому воину. Его поведение построено на отказе от игры (которая, напомним, есть самоотречение). Парадоксальным образом именно это превращает его в театральный персонаж, тогда как образ действий придворного скорее антитеатрален. Воин гордо демонстрирует свою суть, придворный ее затушевывает. В связи с этим Кастильоне вводит понятие небрежного изящества или раскованности (sprezzatura), обозначая им умение скрывать усилия, потраченные на приобретение того или иного мастерства. Все в придворном должно отличаться «безыскусной и чарующей простотой»[34], которая выступает в качестве своеобразного защитного покрова, наброшенного поверх более чем реального искусства. Чем совершеннее придворный, тем меньше в нем приметных качеств и тем труднее его опознать. Именно поэтому он нуждается в описании. В отличие от воина, исполняющего свое предназначение, его поступки не могут считаться образцовыми без дополнительного объяснения. Не случайно Кастильоне поднимает вопрос, может ли придворный хвалить самого себя, и отвечает на него положительно, поскольку в противном случае его герою грозит опасность быть не оцененным «невежами». Однако он советует делать это не напрямую, а путем создания таких речевых ситуаций, когда похвала покажется объективной, идущей от сути вещей, а не от рассказа о них. Несколько утрируя, можно сказать, что структурируемый им новый культурный тип «придворного» по своей природе не театрален, а в буквальном смысле литературен, поскольку является толчком к созданию нарратива.
Сделаем еще один шаг назад. С точки зрения литературной генеалогии «Придворный» продолжал традицию ренессансного диалога, возникшую как подражание диалогу античному. Все его персонажи – реальные исторические лица, действительно присутствовавшие при дворе герцога урбинского в марте 1507 г. Они не только обсуждают качества идеального придворного, но каждый из них по-своему является его моделью. В этой собирательности образа и состоит его совершенство: Кастильоне, конечно, не мог удержаться и не вспомнить легенду о живописце Зевксисе, который, чтобы изобразить идеальную красоту, заимствовал черты пяти разных красавиц[35]. Диалогическая форма позволила автору «Придворного» запечатлеть процесс коллективного творчества, который одновременно являлся процессом саморефлексии. Почему, собственно говоря, участники беседы отдают предпочтение обсуждению совершенного придворного, а не удовольствия от любовных ссор? По-видимому, этот выбор привлекателен для них тем, что напрямую связан с осознанием себя как особого рода сообщества. Через «собирание» образа придворного они утверждают собственную групповую идентичность, которая неизбежно становится политическим фактором. Один придворный не может сформировать властителя, однако это по силам придворному сообществу, объединенному вокруг общего идеала.
Эта вполне реальная политическая и культурная общность формируется в процессе самоописания, сперва устного (беседы при урбинском дворе), затем письменного («Придворный»). Его основой служат не общие воспоминания – кстати, когда Кастильоне публикует свой труд, вспоминать об этих урбинских вечерах уже практически некому, – а общий вымысел. Грубо говоря, участники разговора не конструируют историю, а сочиняют коллективный роман. Они не рассказывают о деяниях своего героя, поскольку жизнь при дворе означает относительную бездеятельность. Их интересуют его «нравы» в широком понимании этого слова, или, если угодно, его психология. Здесь опять-таки будет уместно вспомнить «Принцессу Клевскую» госпожи де Лафайет, справедливо считающуюся одним из первых психологических романов. Не случайно, что его действие почти полностью сосредоточено в пространстве двора, которое в силу своих особенностей побуждает героев к интерпретации поступков окружающих и к самопониманию.
Таким образом, если ученые собеседники Цицерона, о которых шла речь выше, конструировали особый тип «воображаемого сообщества» из книг и их читателей, то участники урбинских бесед создавали новую социокультурную общность, нарративизируя собственное существование. В обоих случаях расширение ролевого репертуара происходило через посредство литературы. Именно этого элемента олитературивания социальных отношений госпожа де Рамбуйе не могла найти при французском дворе.
О проекте
О подписке

