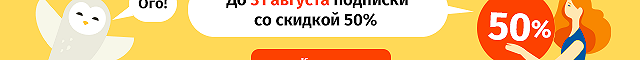
У власти есть два способа вызывать страх: один – ограничиваться наблюдением за нарушениями, угрозами и пропорциональными карами; другой – угрожать людям всегда и за все, угрожать самым суровым, что только может подсказать воображение. Два эти способа производят разное впечатление: один – возможно, опасение, второй – нескончаемую муку; один – предчувствие страха перед тем, что последует за преступлением, второй – страх, охватывающий душу даже при чувстве невиновности; один – разумное опасение законов, второй – тупой страх перед людьми. Уместно сказать о свойствах террора. Террор – это постоянный общий трепет, внешний трепет, поражающий самые потайные струны, унижающий человека и низводящий его до животного; это сотрясение всех физических сил, удар по всем нравственным устоям; расстройство всех мыслей, разрушение всех привязанностей. <…> Террор – это животный ужас, не подверженный влиянию. Страх перед законом, напротив, можно усиливать по мере необходимости. Который из этих двух страхов лучше помогает победе революции, гарантирует ее? Вот к чему сводится весь вопрос, вот что я намерен разобрать. Начнем с террора, оценим его и с точки зрения средств, которые он предполагает использовать, и с точки зрения достигаемых результатов. Правительство может внушать ужас, только грозя смертной казнью, грозя ею беспрерывно, угрожая ею всем подряд, угрожая своими без конца возобновляемыми и без конца нарастающими бесчинствами; угрожая за всякое действие, даже за бездействие; угрожая на основе любых доказательств и без тени оных; угрожая разящей силой своей абсолютной власти и безудержной жестокости. Чтобы всех и всегда повергать в дрожь, необходимо не только предусмотреть казнь за любой поступок, угрожать за любое слово, подозревать за молчание; надо еще на каждом шагу приготовить западню, подсадить соглядатая в каждый дом, изменника в каждую семью, убийц в каждый суд. Одним словом, нужно суметь учинить для всех граждан пытку, казня некоторых, прерывать некоторые жизни так, чтобы укорачивалась жизнь других. Таково искусство сеять террор; обладает ли этим искусством законное, свободное, гуманное правительство или для этого нужна тирания?
Но я слышу вопрос: почему система террора не может разить подозрительные классы, не распространяясь на всех остальных? Я, в свою очередь, спрашиваю, возможна ли безопасность для некоторых там, где о действиях судят по людям, а не по действиям – о людях? А кроме того, добавлю: либо нужен повсеместный террор, либо нигде и никакого. Для Конвента нетерпимо, чтобы республика долго оставалась разделенной на два класса: тот, что внушает страх, и тот, что страшится, на преследователей и преследуемых. Нет больше Кутона и Робеспьера, мешавших защите принципов равенства и справедливости. Меня спрашивают, можно ли сеять ужас в душах злонамеренных людей, не задевая добропорядочных граждан, к какому бы классу они ни принадлежали? Я отвечаю: нет, ибо если правительство террора преследует нескольких граждан за предполагаемые намерения, то оно пугает всех; а если оно ограничивается наблюдением за действиями и наказанием за них, то внушает уже не ужас, а ту опаску, о которой я уже говорил, – благотворную опаску, что за преступлением последует наказание. Таким образом, справедливо утверждать, что система террора предполагает произвол со стороны тех, кто берется его сеять[29].
Далее оратор сам усердствует в сеянии ужаса, утверждая, что «террор» способен обрушиться на любого гражданина в любом уголке Республики, что растущее количество смертных приговоров проистекает из самой сущности этой «системы», закусившей удила, что казни не могут не сопровождаться реками крови, предназначенными для того, чтобы ударить по воображению и посеять страх, что принцип смешения разных приговоренных тоже нужен для устрашения умов тем, что массовые казни друзей или членов одной семьи, отправленных на гильотину, совершаются с утонченной жестокостью[30]. Что до виновности Робеспьера и его подельников, то у него она не вызывает никакого сомнения, ибо эта «система» служила оплотом их «тирании»: «Сограждане, все, что вы только что услышали, – всего лишь комментарий к сказанному с этой трибуны Барером о системе террора назавтра после смерти Робеспьера; это он ввел ее в действие при помощи горстки подручных, некоторые из которых погибли вместе с ним, а остальные заживо похоронены всеобщим презрением. Конвент был их жертвой, а никак не соучастником»[31].
Охота на еще живых «подручных» Робеспьера разворачивается незамедлительно. Уже на следующий день, 12 фрюктидора, Лекуантр, член Конвента, обличает в его стенах семерых бывших членов двух крупных комитетов, в том числе Барера, Бийо-Варенна и Колло д’Эрбуа. Это, конечно, не случайное совпадение с речью Тальена, тем более что последний связан с Лекуантром. Обвинение, разумеется, отвергается как клеветническое, но уже месяц спустя звучит новое обвинение, на сей раз из уст члена Конвента Лежандра, в адрес тех же троих и еще Вадье; предлагается также учредить комиссию для следствия по их делу[32]. Однако, вопреки утверждениям Тальена, Барер, выступая от имени Комитета общественного спасения 11 термидора, ни разу не обмолвился о существовании созданной Робеспьером и его сообщниками «системы», а ограничился обличением узурпации власти триумвиратом тиранов. Если верить ему, Робеспьер должен был «царить» в Париже и в центре Республики, Сен-Жюст выделил для себя Север в силу своих задач в армиях на северном и рейнском фронтах, Кутон и брат Робеспьера Огюстен властвовали бы на Юге[33]. Ни слова о пятом народном представителе, погибшем 10 термидора, – Леба, который предпочел наложить на себя руки, а не дать Конвенту затащить его под нож гильотины вместе с его друзьями. Эта речь Барера поспособствовала черной легенде о Робеспьере, распространявшейся с лета 1794 года, а частично и раньше[34], и совпадавшей с версией Тальена только в ключевом элементе: Конвент и его комитеты якобы ничуть не ответственны за «террор»; кстати, сам смысл этого слова будет изменяться между летом 1794 и осенью 1795 годов в сторону усиления его связи исключительно с Робеспьером.
В таком климате ненависти к этому «новому Катилине», поверженному 9–10 термидора, совершенно не слышны голоса несогласных. Тщетно Камбон, тоже клеймящий Робеспьера и его «террористическую систему», напоминает не только о чрезвычайном характере правительства, но и о том, что многие чрезвычайные институты были учреждены декретами, почти единогласно проголосованными этим же самым Конвентом: «Подумайте о том, что сейчас необычное время; о том, что, принимая Декларацию прав, вы не должны были учреждать комитеты по надзору, однако единодушно высказались за их необходимость»[35].
Амнистируя сам себя, Конвент не мог не чернить память Робеспьера. В последующие века тот оставался автором и главарем «террора», диктатором, душившим любые споры, навязывавшим Конвенту свое главенство и тратившим время на добавление имен в нескончаемые проскрипционные списки, тираном, мечтавшим короноваться посредством женитьбы на дочери Людовика XVI, которой он связал бы себя кровными узами с Бурбонами, свирепым триумвиром, намеренно затмевавшим Сен-Жюста и Кутона (упомянутый Барером Огюстен быстро исчезает из этой шайки, чтобы не мешать красивой картинке триумвирата, вдохновленной Античностью, а также потому, что казнен он был только за фамилию, так как ему нельзя было вменить никакого преступления). Все вместе позволяет Конвенту огласить новость по всей территории страны и в армии, представляя Термидор падением очередной фракции, желавшей узурпировать суверенитет нации, доверенный народом своим представителям. Поток обращений, хлынувший в Париж летом и осенью 1794 года, служит иллюстрацией того, как распространялась эта новость, и демонстрирует ограниченность словаря, то, что сейчас назвали бы казенным языком, при помощи которого местные власти, народные общества, простые граждане поздравляли Конвент со спасительным ударом, нанесенным «гнусному Робеспьеру» и «чудовищам-триумвирам»[36].
Одно из самых нелепых объяснений казни Робеспьера опубликовали через несколько месяцев в Лондоне под броским заголовком: «Робеспьер у сироток, или Тайная история последних дней Робеспьера». Опираясь на якобы вынашиваемое Робеспьером намерение стать королем, эта история в комическом стиле повествует о его злоключениях и, главное, пытается с едкой иронией объяснить то, что кажется на первый взгляд необъяснимым: «То, что герой подобного свойства завершает свою карьеру на эшафоте, никого не удивляет; то, что он взошел на него как роялист, – вот во что трудно поверить»[37]. После попытки похитить пчелиную матку из улья – это похоже на обвинение его же в дерзких мечтах о женитьбе на дочери Людовика XVI, узницы тюрьмы Тампль – Робеспьер подвергается нападению разъяренных насекомых. Его, покрытого тысячью укусов, изрыгающего подхватываемые эхом «ужасные проклятия» и крики боли, с лицом, изуродованным чудовищными нарывами, мучимого нестерпимой лихорадкой, лечит старик, приютивший двух сирот, чей отец убит парижскими санкюлотами. Вызванный жаром бред заставляет Робеспьера сознаться не только в собственных «преступлениях», но и в преступлениях всей Революции старому мудрецу, который тем не менее продолжает о нем заботиться. Восстановив силы и испытывая раскаяние от доброты старика, Робеспьер обещает ему восстановить религию и монархию <…> Для автора-анонима это приемлемая причина его устранения друзьями-якобинцами, лишь только те почуяли его политический вираж в пользу роялистов!
Во внушительной массе памфлетов и брошюр, сходивших тогда с печатного станка и игравших среди прочего на модной несколько недель после Термидора теме «члена Робеспьера» (la queue de Robespierre)[38] и низвержения его и якобинцев в ад[39], преимущественное место занимает пролитая во исполнение «системы террора» кровь. Юмор при этом служит не только для привлечения читателя, но и для избавления его от страха оружием смеха, когда Эрос заменяет Танатос и когда приемлемым становится даже грубое словечко – «половой член» (queue): «События революции часто добавляют в республиканский словарь новые слова, такие, как это, вызывающее смех у всех наших женщин: “каждый желает показать свой член”, “член Робеспьера”, “верните мне мой член”, “ответ члену”, “защищай свой член”, “отрежем ему член”»[40]. Разглагольствуя о половом члене Неподкупного и о его низвержении в ад, так называемое Письмо тени Робеспьера, направленное его сторонникам с того света, раскрывает, будто бы он объяснил «адскому трибуналу», что хотел внедрить «политику <…>, соответствующую его взглядам», заточить «кинжалы для убийства свободы», расхитить состояния, разрушить торговлю, учинить голод, защитить разбойников, «перебить уйму людей во имя человеколюбия»… короче, «развязать террор»[41]. Тень Робеспьера присовокупляла, что ему понадобилось бы «пять смертельных лет для достижения (его) цели». Кроме того, автор предлагает хронологические рамки для этих проектов, а потом для развертывания «царства террора» – между летом 1789 и летом 1794 годов.
Эти издевательские потуги подсказывают любому читателю две констатации: с одной стороны, Робеспьер якобы стремился к кровавой диктатуре с самого начала Революции, а с другой стороны, его казнь положила конец «царству террора» (этому выражению суждено долгое будущее)[42]. Здесь естественным образом подтверждается политический анализ Тальена, хотя в 1789 году слово «террор» далеко еще не имело того смысла, который оно приобрело в 1794 году, и ни Робеспьер, ни его сторонники никогда никому не навязывали никакого «террора в порядке дня».
О проекте
О подписке