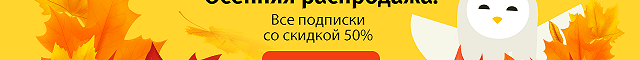
советах, которые он не без юмора называл «малым Совнаркомом», родительскую позицию всегда
оглашал он сам, при молчаливом, подразумевающемся согласии со стороны Валентины. Так
было, когда он давал Ляле инструкции о поведении перед поездкой с поездом дружбы в
Чехословакию, а ещё раньше, в её пионерском возрасте, перед тем, как отправить дочь в «Артек».
Формат был устоявшимся и не менялся в зависимости от тематики: они усаживались за большой
обеденный стол, причём Жора всегда сидел напротив дочери, лицом к лицу с ней, а Валентина –
за тем же столом, на отцовской стороне, но чуть сбоку, словно не имеющий права голосовать член
Политбюро. Когда Ляля подросла до уровня понимания того, какие пружины и каким именно
образом работают в настоящем, том самом Политбюро (Жора весьма обстоятельно и откровенно
просветил её на этот счёт в начале школьных каникул после восьмого класса, на даче, подальше от
стен и потолков, когда они собирали малину, время от времени лениво отмахиваясь от пчёл),
Ляля при следующей оказии предложила родителям переименовать их «малый Совнарком» в
«малое Политбюро». Жора весело рассмеялся, с готовностью похвалил её за то, что она стала
мыслить взрослыми категориями, после чего, всё ещё полушутя, процитировал Алексея
Константиновича Толстого:
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.
И умная Ляля поняла, что её идея осуществится, если вообще осуществится, только когда и
если Политбюро разделит историческую судьбу Совнаркома.
На этот раз «малый Совнарком» собрался весьма оперативно – на следующий день после
визита Савченко. Отец шутливо, постучав чайной ложечкой по розетке с айвовым вареньем,
объявил заседание открытым и сказал, что на повестке дня три вопроса: впечатления, которые
оставил о себе юный авиаконструктор, перспективы его карьерного роста и «разное».
Ляля по-детски беззаботно жевала золотистый, неправильной формы кусок айвы из
варенья, пытаясь понять, как бы охарактеризовал егерь его геометрическую форму – додекаэдр
или октаэдр? – и за беспечным хихиканьем пытаясь скрыть волнение. Мнение отца в семье
считалось решающим, и она это знала. Жора, в лучших традициях дипломатического дискурса,
начал, что называется, за здравие:
– Ты знаешь, дочь солнечной Армении, наш вчерашний визитёр меня обнадёжил. Не
перевелись ещё умные головы на Руси! А именно: в провинциях! Я готов отдать десяток
столичных хлыщей из московских спецшкол за одного такого парадоксально мыслящего – но
мыслящего! – Здесь Жора по-лекторски поднял палец вверх, – провинциала-знатока поэзии. Тем
более что он весьма выборочно относится к поэтам. И подчас даёт довольно резкие оценки. Я,
наверное, пристрастен и, грешен, питаю слабость к дерзким и самоуверенным провинциалам. «Из
грязи в князи» – в этом что-то есть! Твой пришелец из Изотовки – это, как выражаются наши
потенциальные противники по ту сторону океана, – классический underdog. Из такого
человеческого материала в условиях загнивающего и умирающего капитализма получаются
министры финансов, а то, глядишь, и президенты. Которые, кстати, силой своего интеллекта и
спасают в энный раз капитализм от неминуемого краха. – На лице Жоры играла сардоническая
улыбка, которая, в более слабой версии, отразилась и на лицах Ляли и Валентины. – И здесь мы
вплотную подходим к нашей проблематике – той, что по эту сторону океана. А именно: каковы
реальные перспективы этого апологета аэродинамики и ярого оппонента тех, кто «с детства не
любил овал, кто с детства угол рисовал»?
Жору, как это часто с ним бывало, увлёк поток вдохновения, и он со скрытой досадой
пожалел, что эти строчки Когана не пришли ему в голову вчера во время поэтического диспута.
– Завод Хруничева – из того немногого, что я знаю, – это космос. Космос – это секретность,
допуски и статус невыездного. Что мало бы меня беспокоило применительно к кому угодно
стороннему. Но у меня зреет и даже вызрел вопрос, о дитя нервной и сторожкой
дипломатической среды! А какие отношения у тебя с этим молодым человеком? – И Жора очень
пронзительно посмотрел на дочь.
Ляля знала этот взгляд отца и была уверена с того момента, как затеяла весь этот визит, что
ей придётся вынести эту непростую очную ставку.
– Отношения? – как можно более ровно эхом откликнулась она. – Дружеские. На уровне
послов. Он ведь интересный, неординарный человек. Ты, по-моему, сам это сказал.
Жора этого не говорил, но Ляля знала, что лучшая защита для неё – это нападение, и
словечко «неординарный» – прямо из лексикона егеря! – пришлось очень даже кстати.
Жору не удалось сбить с темы: он знал, что ставки потенциально могут быть очень высоки:
– Дитя моё, – несколько язвительно среагировал он, – у меня целый отдел интересных
людей. При соответствующем усилии их можно даже назвать неординарными. Но я совсем не
торопился бы открыть им двери своего дома. Или представлять их в объятиях, скажем так, моей
дочери.
Ляля моментально, как в пинг-понге, сообразила, что на «объятия» нужно реагировать, и
причём немедленно. Секундная задержка с ответом с её стороны была бы смертельно опасна: кто
знает, куда могли их завести эти физиологические подробности!
– Причём здесь объятия?! – с хорошо поставленным изумлением воскликнула она. – О них
речь не шла и не идёт!
– Пока, – тут же, без паузы добавил Жора. – Пока не идёт. А дальше?
Ляля решила помолчать в надежде, что отец скажет что-нибудь ещё и ей не придётся
отвечать на вопрос. Но Жора наседал на неё в лучших традициях мидовского переговорщика. –
Этот вопрос беспокоит не только меня, но и мать.
Валентина, доселе сидевшая безмолвно, сказала с некоторой долей заученности:
– Ты сама определилась со своим отношением к нему? Со своими чувствами, если они,
конечно, есть?
– Вот именно, – подхватил Жора, – об этом и речь. У тебя это что-то серьёзное? Ты сама что
обо всём этом думаешь?
– Не знаю, – ответила Ляля и сама удивилась, насколько её ответ близок к истине. – Мы с
ним болтали как-то там, на Чегете, и он рассказал мне о казусе кота Шрёдингера. Вот и моё
отношение – это такой кот.
Жора и Валентина озадаченно посмотрели на дочь, и той ничего не оставалось, как
пуститься в подробные и путаные объяснения:
– Я, честно говоря, сама не до конца поняла, в чём смысл этого эксперимента с
воображаемым котом – так только, в самых общих чертах. А Шрёдингер – это какой-то
австрийский учёный, судя по всему, физик, по имени которого назван эксперимент. Эксперимент,
кстати, сугубо мысленный, в этом как раз для меня и трудность с его пониманием. Главный вопрос
эксперимента, на который нужно дать ответ: распалось ли одно ядро атома, период распада
которого – один час, или нет. По условиям дано, что распад ядра, которое находится в
изолированном металлическом контейнере, приведёт к цепной реакции выделения
сильнодействующего яда, который убьёт кота, сидящего в том же контейнере. С другой стороны,
если ядро не распадётся, то кот останется жив и будет преспокойно сидеть себе в ящике и дальше.
Загвоздка в том, что ящик закрыт, и вы не знаете, жив кот или нет, то есть распался атом или нет, по крайней мере до тех пор, пока не вскроете ящик. До момента вскрытия ящика с равной
степенью вероятности можно одновременно допускать любую из двух взаимоисключающих
версий, – закончила Ляля тираду и сама удивилась тому, как складно и доходчиво объяснила то,
чего сама понять не могла.
– Единственное, что мне импонирует в этом эксперименте, что он сугубо мыслительный. Я
правильно тебя понял? – пробурчал Жора. – То есть никакой реальный кот в результате не
пострадал. Но выводы из твоей аналогии малоуспокаивающие, надо сказать. То есть ты сама
толком не можешь разобраться, в каком состоянии этот твой кот?
Ляля молчала, только пожала плечами. Ей действительно нечего было сказать, не
распространяться же на тему сексуальных игр с маской!
Жора сосредоточенно посмотрел на скатерть перед собой:
– Тут ведь есть ещё один фактор – фактор времени. У этого твоего кота его не так уж много.
Не один час, конечно, – усмехнулся он, и Ляля в очередной раз про себя восхитилась тем, как от
отца не ускользают такие важные детали, – но и не вечность. Хорошо, если твой гипотетический
кот мёртв, тогда вопроса нет. А если наоборот? Ведь у него, этого Есенина от аэродинамики,
распределение на носу. И что ты будешь с ним делать, если упекут его в заурядный – да пусть хоть
и весьма незаурядный! – но «почтовый ящик»? Сидеть на одной шестой суши до конца своей
жизни? Это уже период распада не атома, а всей карьеры!
Жора видимо волновался, что было очень непривычно для Ляли, и ей захотелось сказать
отцу что-то ободряющее.
– Хочешь, я скажу ему ничего не подписывать и ни на что не соглашаться пока.... – она
запнулась, – пока решается, жив кот или нет?
– Давай, и не медли. А то упекут его под белы рученьки в какую-нибудь Черноголовку,
если не в Тюратам, – только ты его и видела. Он, по-моему, не до конца прочитывает эту
ситуацию. Это бывает – особенно с выходцами из Изотовок. И, кстати, здесь мы переходим к
третьему и последнему пункту повестки дня, а именно: «разное». Пока я сам не забыл, во-первых, проведи с ним объяснительную работу под девизом «язык дан дипломату, чтобы скрывать мысли,
а не высказывать их». Это я к вопросу о главвоенморе, которого он причислил к лику политиков.
Понятно, о ком речь? – Жора снова испытующе посмотрел на дочь. – Святая инквизиция уже
высказала своё мнение. Roma locuta – causa finita – Рим высказался – дело завершено. А то твоему
конструктору вроде и невдомёк. Я вообще удивлён, что он там, в Изотовке, слышал это имя. Явно
влияние или какого-то любимого школьного учителя, или, что вероятнее, – его отца. Недаром тот
любитель поэзии. Военмор-то тоже не чурался, даже с Есениным полемику газетную вёл. – Жора
опять невесело усмехнулся. – И ещё. Тоже в разделе «разное»… Очень ненавязчиво донеси до
него мысль, что за трапезой запивают еду вином маленькими глотками и вовсе не обязательно до
дна, а не наоборот – не закусывают алкоголь едой. Кстати, предварительно промокнув губы
салфеткой. Боюсь, что в МАИ этому не учат, не говоря уже об Изотовке…
Несмотря на незлобливый тон сказанного, – Жора попытался придать своему голосу
максимально нейтральный оттенок – Ляля вдруг вспыхнула от смущения, будто уроки этикета
адресовались непосредственно ей.
– На этом заседание «малого Совнаркома» объявляю закрытым, – шутливо провозгласил
Жора, подумав про себя с всё возрастающей тревогой: «Боюсь, нам ещё предстоит вернуться к
разговору о состоянии этого так называемого кота Шрёдингера. Кажется, всё не так просто и
безобидно, как она хочет нам это представить».
Она прожила с ним чуть ли не целую жизнь, если брать за хронометраж
продолжительность существования ну, скажем, одной картофелины. Это уже затем, много
позднее, она поднаторела в таких странных аналогиях, когда толчком стало мельком услышанное
по английской службе Би-би-си упоминание о «собачьих годах», что-то типа того, что один год
собачьей жизни (по крайней мере, для овчарки) идёт за двенадцать лет человеческой. Так что в
категориях картофеля те пять месяцев, что они провели вместе, – длинная, полновесная жизнь.
Ergo – это его словечко-паразит, которое у него появилось уже здесь, в Москве, и которое почему-
то раздражало Лялю. Что за навязчивость в мыслях: «дано», «следует доказать», «следовательно»
– ergo… Уж лучше и понятней ещё одно его любимое «ёксель-моксель». Оно как-то более
естественно звучало в его устах.
Да ладно! Ведь, не считая этого слова, она была с ним счастлива? Ещё бы! Конечно, так,
как никогда раньше! И эта обманчивая линейность их сладостного существования, их медового
месяца длиной в недели и декады, там, в зимней темноте её спальни, пока отсутствовали
родители, и потом, на московских улицах под прохладными апрельскими ветрами, когда уже
сошёл снег, наверное, и сыграла с ней жестокую шутку.
Она заторопилась жить, поспешила, как птица, вить воображаемое гнездо, веточка за
веточкой, приголубливая его уже не только в постели под аккомпанемент советов из опасной
поваренной книги, а и в том, большом мире. Так ведь и мудрено не ошибиться. Это зорко
подметил и Жора, когда вполне демократично открывал ему дверь по вечерам не реже четырёх-
пяти раз в неделю. Савченко, как киногерой в духе итальянского неореализма, с сожалением
покидал Лялину спальню на время ради сиротских подъездов соседних домов, чтобы самым
невинным образом снова предстать перед дверью её квартиры час спустя, когда Жора
возвращался с работы. И Жора, глядя на них со скепсисом номенклатурного патриция и ревнивой
подозрительностью отца-армянина, в душе не мог не признать – пусть и ворчливо, сквозь зубы,
что они созданы друг для друга. Об этом красноречиво сообщали миру все эти взгляды, тактичные
недомолвки, необидные для окружающих усмешки умных, уже совсем взрослых людей, которых,
казалось, связывали не месяцы, а годы.
«Голубки, нечего сказать!» – внутренне вздыхал Жора, стараясь намётанным взглядом
дипломата посмотреть на них, будто на чужих, со стороны: каково они будут смотреться вместе?
Даже внешне они подходили другу другу, при всей их непохожести. Дочь напоминала головку с
камеи: высокий лоб, чёткий рисунок глаз, правильной формы прямой нос, полные чувственные
губы. Лишь чёрные волосы и длиннющие загнутые ресницы намекали на её неславянское
происхождение. При взгляде на неё Жора всякий раз с облегчением констатировал, что ей, с её
внешними данными, слава богу, не нужна косметика: её лицо ярко и выразительно само по себе.
Он, проживший десятилетия в Москве, так и не привык к конвульсиям моды, заставляющим
горожанок грунтовать кожу на лице, и подспудно числил косметику где-то по категории ажурных
чулок и красных фонарей. Ну и этот потенциальный зять из ниоткуда, любитель стихов и
математической зауми, тоже не обижен создателем, который потрудился над ним крупными
мазками акварелью: светло-серые прозрачные глаза, светло-русые волосы, круглое лицо.
Есенинский типаж, нечего сказать! Валентина тогда, при первой встрече, оказалась права. У неё, как и у всякой женщины, на первом месте внешние ассоциации. Женщина, что с неё взять!
Впрочем, и не дурак – МАИ всё-таки! Ребус из Окуджавы разгадал, ответил, заявившись на второе
свидание; правда, не без подсказки – понял, что загвоздка в шлеме, не снятом с головы. А что
шлем не снимают над поверженным врагом – это уже пришлось Жоре подсказывать.
О проекте
О подписке