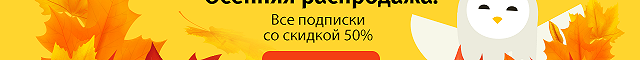
Вероника промолчала. Но Вадик уже проснулся и внимательно смотрел на нее. Она подумала, что в глазах у нее сейчас, наверное, испуг, но в спальне очень темно, и как хорошо, что дворец специально построен так, чтобы луна смотрела ночью в гостиную, а не в спальню, и что, наверное, было бы нестерпимо, если бы луна каждую ночь отражалась в круглой лысине Вадика.
– Кто завелся? Ты про собаку опять? Тебе так нужна эта собака? – спросил Вадик устало, но дружелюбно.
Вероника сделала еще один глубокий вдох и сказала:
– Про собаку, да. Мне очень нужна собака. Очень. Ты даже не представляешь, как.
* * *
Утром, натянув спортивный костюм из песочного кашемира, Вероника уложила в сумку секатор, аккуратную медную лопатку и грабельки, книжку «Руководство начинающего садовода» и вышла работать в сад.
С тех пор как Вадик купил ей этот дворец, почти все свободное время, то есть все время, не занятое массажем, укладками, маникюром, примеркой вещей из новых коллекций, вялотекущей благотворительностью, просмотром Настиного Тиктока и собственного Инстаграма[1], Вероника посвящала растениям. Вадик одобрял это аристократическое увлечение.
Не то чтобы Веронике нравились растения, она их не очень-то замечала, но она нравилась себе сама – с этой сложной прической, когда нужно два часа укладывать волосы, чтобы они выглядели неуложенными, в этих неброских костюмчиках, каждый из которых стоил как Сусаннина «Таврия», с этой книжкой, которую она листала, красиво откинувшись на скамейке, пока Сусанна фотографировала ее для Инстаграма.
Но сегодня ей и вправду захотелось весны, воздуха, напоенного цикламенами, бризом, мимозой, свежей работы в саду, напряжения мышц, которые вдруг показались ей все еще сильными и молодыми.
По каменной лестнице Вероника спустилась в ту часть сада, где были высажены деревья, зацветающие раньше всех (Вадик настаивал, чтобы сад был разбит на сезоны), – и остановилась, замерев: за ночь расцвела еще вчера совершенно лысая магнолия Суланжа. Ее голый серый ствол и неловкие ветви густо покрылись хрупкими, как будто фарфоровыми лепестками; на гладком дереве без листвы эти большие цветы, белые с розовыми прожилками, казались приклеенными каким-то ночным шутником; магнолия выглядела нездешней, неправдоподобной, и Вероникино сердце заколотилось еще сбивчивее и тревожнее: от неожиданной ранней весны, от ее запретных чудес и хрупких, как будто фарфоровых, воспоминаний.
Присев на скамейку, Вероника достала из кармана телефон, нашла в звонках номер Вачика и написала:
– И все-таки откуда ты знаешь, где я живу?
– Слежу за тобой, – ответил Вачик.
– Зачем? – спросила Вероника, пытаясь унять участившееся дыхание.
– Забыть тебя не могу.
Они встретились через два часа в ресторане, который выбрала Вероника, – кабак был довольно терпимым, но не таким, где можно было бы встретить Вадика или их общих знакомых.
Вероника надела короткое платье широкого кроя – так, чтобы скрыть располневшую талию, но показать по-прежнему исключительной красоты ноги. Заказала себе апероль-шприц. Вачик спросил кофе по-восточному. Кофе по-восточному не оказалось, и Вачик не стал больше ничего заказывать.
Изменился он очень мало. «Как назло», – подумала Вероника. Черная шевелюра поредела и поседела, но это его не портило, скорее, наоборот. Телом Вачик всегда был кряжистый, ширококостный, и даже если чуть-чуть располнел с возрастом, в глаза это не бросалось. Кожа на его бычьей шее и мощных руках стала медной и грубой, и в этом тоже было что-то влекущее, мужественное. Вероника вспомнила белую дряблую кожицу Вадика, на ощупь тонкую и неприятную, как промокшая марля.
А глаза у Вачика не изменились вообще – такие же черные, топкие, подернутые обманчивой поволокой задумчивости, они вдруг взрывались небезопасными искрами, как зажженные в тесной квартире бенгальские огни.
Он молча смотрел на Веронику, слегка улыбаясь торжествующей и лукавой улыбкой.
– Ты что с собой сделала? – спросил наконец Вачик. – Как будто двадцать лет тебе.
– Ничего не делала, – соврала Вероника.
– А почему так выглядишь хорошо?
– Ты тоже хорошо выглядишь.
– Это я для тебя побрился. Я помню, что тебя щетина царапала.
От этого прямолинейного даже не намека, а указания на их прошлое внутри Вероники снова поднялся огневой фейерверк, который она потушила крупным глотком коктейля.
– Я замужем, – чуть хрипло сказала Вероника.
– Я в курсе, – посмеиваясь, ответил Вачик. – Сказал же, я все про тебя знаю.
– Что, например?
– У тебя дочка в Англии учится. И тебе скучно.
– С чего ты взял?
– В твоем возрасте всем красивым женщинам скучно. Потому что красивые женщины удачно выходят замуж, и им не надо работать. Дети вырастают – и женщины скучают. Но для этого есть Вачик! – сказал он и поиграл бровями.
У Вероники задрожала рука – так, что она чуть не вылила на себя коктейль.
– Я поеду, – сказала Вероника, поставив бокал на стол.
– Неа. Не поедешь, – ответил Вачик и взял ее руку.
– Почему? – спросила Вероника, воровато оглянувшись по сторонам, но руку не забрала.
– Потому что не хочешь.
– Не хочу, – покорно согласилась Вероника.
– Если честно, мне самому ехать пора, – вдруг сказал Вачик, вставая. – Тебя отвезти?
– Нет, я с водителем.
– Конечно, ты с водителем. Кто же такую отпустит одну, – ухмыльнулся Вачик. – На созвоне тогда.
Домой Вероника не поехала – не смогла себя заставить. Она молча сидела в своем голубом кайенне, блуждая глазами по выцветшим пятиэтажкам с подъездами в корчах чернеющей виноградной лозы, по пыльным мимозам и фонарям с линялыми вывесками; вокруг бродили тощие псы, чужие машины шныряли, как блохи в немытой шерсти стареющей Хосты… Но Вероника не видела ничего, она досматривала в голове – и не хотела выключать, пока не закончится, – одно из своих теперешних наваждений – мучительных и сладострастных сцен понятного только ей сериала, целиком состоящего из драгоценных обрывков воспоминаний о Вачике.
Теперь эти сцены включались в голове Вероники непрошено, неминуемо, неотвязно. Сидя за спиной у своего водителя – мужа Сусанны Сурена – она смотрела, как Вачик, тяжелый и влажный, лежит на Веронике на пляже – оба они были наполовину в воде – и говорит: «Вкусная ты, такая вкусная. Сама не знаешь, какая ты вкусная, маленький».
Собственно, это была их последняя встреча.
– Поехали на кладбище, – очнулась вдруг Вероника.
Сурен не сразу, нехотя нажал на педаль.
Грязное кладбище за аэропортом было похоже на штопаную мешковину в желто-зеленых заплатках цветущих мимоз. Груды пластиковых бутылок, пакетов, тарелок, приборов, бумажных цветов карабкались вверх по горе вдоль каменных памятников.
Мама лежала одна, почти на самой вершине горы. Ее не было уже двадцать лет, она умерла сразу после Вероникиной свадьбы, хотя давно болела, – как будто удерживала этот рак усилием воли, пока не убедилась, что дочь в надежных руках.
Вероника присела на лавочку. На кладбище было все по-другому, не как в день похорон: за новой взлетной полосой почти не видно старую Мзымту, за Мзымтой шумит олимпийская трасса, и гора с нахлобученным на нее белым облаком, когда-то чистая и зеленая, теперь застроена новым коттеджным поселком.
Вероника встала, прошлась, цепляя кашемировым кардиганом чугунные вензеля оградки. Потрогала мягкие гроздья склонившейся над могилой мимозы. Сдула с руки желтенькую пыльцу.
– Мам. Я Вачика встретила. Помнишь Вачика? – сказала Вероника серой надгробной плите.
Верхушки прямых кипарисов колыхались, как огоньки поминальных свечей. Из кипариса вынырнула сойка с бирюзовыми крыльями, села на ограду и покачала головой в сторону Вероники.
– Ты осуждаешь меня, мам? – спросила Вероника и замолчала, как будто действительно ждала услышать ответ. – Осуждаешь. Конечно, ты осуждаешь.
Из-под мимозы метнулся кладбищенский кот, сойка снова вспорхнула в глубь спасительного кипариса.
– А за что меня осуждать? Что я жить еще хочу? Что я не привидение еще в этом дворце? Даже в Библии написано, что нет ничего в жизни, кроме любви. И нету! И нету!!! Все остальное пресное, мама, пресное, несоленое, жрать невозможно все остальное, мама, понимаешь? Мне вот тут домработница говорит, что человек не может не жрать. И я не могу. И жрать эту жизнь несоленую я не могу тоже. В горло не лезет!.. А ты осуждаешь.
Мамино лицо, вытатуированное на сером граните, смотрело вдаль, за Мзымту, за гору, сквозь Веронику, бессердечное в своей безучастности.
Когда Вероника вернулась домой, Вадик один ужинал в столовой. На серебряном блюде еще дымились ломти запеченной бараньей ноги с розмарином и чесноком. Рядом в прозрачном сотейнике лежала белая спаржа, в серебряной миске Кристофль уже остыл соус беарнез.
– Ты можешь объяснить Рузанне, что в беарнез надо класть эстрагон? – сразу сказал Вадик вошедшей Веронике. – Что если не класть в беарнез эстрагон, то это просто масло с яйцом, а не беарнез! Если не могут найти эстрагон, пусть лучше делают голландез, а не беарнез. Голландез к спарже даже и лучше. Можешь ты ей это объяснить?
– Нет, – сухо ответила Вероника. – Именно это я ей объяснить никогда не смогу.
– Ну, значит, я сам объясню, – сказал Вадик, внимательно прожевывая спаржу.
Вероника сделала шаг обратно к дверям и вдруг спросила:
– Скажи, откуда это: «Тебе есть в мире, что забыть, ты жил, я так же мог бы жить»?
– Это Лермонтов, Михаил Юрьевич. Следовало бы вам знать, моя прекрасная леди. Я вам, помнится, не раз вслух читал.
И Вадик принялся по памяти декламировать:
– Пускай теперь прекрасный свет
тебе постыл, ты слаб, ты сед,
и от мечтаний ты отвык,
что за нужда – ты жил, старик!
Тебе есть в мире, что забыть!
Ты жил! Я так же мог бы жить.
Меня могила не страшит…
– А меня страшит, – перебила Вероника.
– Всех страшит, – беззаботно отозвался Вадик. – Но нам рано об этом думать.
Вероника подошла к дверям.
– Слушай, – остановил ее Вадик. – Ты вчера была какая-то… другая. Ночью. Почему? Может, ты не кончила?
Вероника брезгливо посмотрела на Вадика и молча вышла из столовой.
– Поднимись в нашу спальню. Думаю, там кое-что тебя порадует, – сказал ей вслед Вадик.
– В нашей спальне меня точно ничего не может порадовать, – прошептала, не оборачиваясь, Вероника.
– Это я уже понял. И все-таки поднимись.
Медленно, тяжело, как больная, Вероника поднялась в спальню, отделанную английскими обоями, с английской шахматной черно-белой напольной плиткой. За открытым окном перекрикивались дрозды. Вдруг очень близко Вероника услышала другой, жалобный звук. Обернулась. На постели скулило бежевое и пушистое – маленький живой щенок померанского шпица, которого Вероника не то чтобы очень хотела завести, но именно его не хватало для полноты ее инстаграм-странички.
Схватив в охапку послушного шпица, Вероника спустилась в столовую. Вадик доедал пирог баноффи, любимый десерт просвещенных лондонцев, который обескураженная кухарка Рузанна научилась делать с Вадикиных слов из растворимого кофе, бананов и вареной сгущенки.
Вероника тихонько подошла сзади к Вадику, погладила его лысину лапкой шпица и сказала:
– Конечно, я кончила вчера. Разве я могу с тобой не кончить?
* * *
Предзакатную февральскую тишину, еще не разрушенную скорым апрельским грохотом жаб и цикад, взрезал гул частного самолета, который Вадик отправил за своими гостями, пожелавшими отметить День защитника Отечества у него во дворце.
Зимовники, как только что вылупившиеся цыплята, окружили дорожки вокруг дворца, и Вероника заранее утомилась, предвкушая восторги питерцев и москвичей, Вадикиных друзей и покровителей – всем известных больших чиновников, никому не известных, но очень значительных генералов, постаревших эстрадных звезд и тех, кого во времена этих звезд было принято называть олигархами.
С утра Вероника бесцельно бродила по дворцу. Теперь она смотрела на дворец не своими скучающими глазами, а порывистыми глазами Вачика. Что бы он сказал, если бы увидел, как она живет? Ничего бы не сказал, конечно, – он никогда не говорит, что думает, – но что бы он подумал?
Веронике очень хотелось показать ему эту каминную с вензелями, эти девять спален – восемь из них гостевые, и у каждой отдельная, как говорит Вадик, «декораторская идея», которая заключается в том, что в спальнях поклеены одинаковые обои разных оттенков, а в прикроватных тумбочках лежат разные томики воспоминаний Черчилля.
В ванных пахло душистым мылом ручной работы, которое Вадику доставляли прямо из Хэрродс даже в пандемию.
С той короткой встречи в ресторане Вероника больше не видела Вачика, хотя они переписывались каждый день. Вероника ждала, что он позовет ее куда-нибудь выпить кофе, но он писал только: «Когда мы уже посидим нормально?» – и, если она отвечала: «Когда скажешь», – Вачик больше не отвечал.
– Наверно, работает много. Таксистом или охранником, – думала Вероника. – Зарабатывает столько, сколько Вадик тратит на мыло.
Сусанна притащила в гардеробную огромные оранжевые пакеты, которые Вероника специально заказала доставкой из ЦУМа, чтобы выбрать платье для вечера встречи выпускников.
Всю неделю Вероника не могла думать ни о чем, кроме этого вечера. Она представляла, как Вачик заедет за ней в шесть часов, как она пригласит его во дворец, небрежно проведет по гостиным и спальням, покажет каминную с вензелями, потом предложит ему кофе по-восточному на террасе над морем, и, пока он будет пить, шалея от ее гранатового заката, жалея о том, каким он был идиотом, она наденет новое платье, серьги с рубиновыми сердечками и выйдет к нему, неотразимая, на каблуках. Он сразу молча поймет: она видит, как он шалеет и как он жалеет, и что не надо жалеть, потому что она все простила, – и что все еще впереди.
На вечер встречи они опоздают и бесстрашно войдут вдвоем – может даже, она возьмет его под руку. А потом, на обратном пути, по дороге, в лесу, если она решится, если только она решится… Но дальше Вероника пока запрещала себе представлять.
– Сурен тебе изменяет, конечно? – вдруг спросила Вероника Сусанну. Сусанна даже не удивилась.
– Изменять не изменяет. Так, летом трахается с отдыхающими, как все. Ой, извиняюсь. А так нет, не изменяет.
Вероника расхохоталась.
– То есть с отдыхающими – это не измена?
– Да нет, конечно.
– Почему?
– Ну, ему надо же. Он же мужчина. Ему надо. Так его природа устроила. Хочется же ему. Если он все время не будет делать, что ему хочется, он же будет нервный, – мне, что ли, лучше будет?
– А ты ему изменяла когда-нибудь?
Сусанна даже всплеснула руками от кощунства такого предположения.
– Нет, конечно!
– Я так и думала. Мужчине, значит, надо, а женщине – не надо?
– Я считаю, да. И все так считают.
– А если женщине тоже очень хочется?
– Если женщине очень хочется, значит, она блядь. Ой, извиняюсь.
Вежливо постучав пухлыми костяшками в открытую дверь, в гардеробную зашел Вадик. В руках он бережно, как младенца, нес запыленную бутылку виски. Сусанна, увидев хозяина, предусмотрительно вышла, – он не любил, чтобы прислуга попадалась ему на глаза.
– Single Malt Founders Private Сellar, – прочитал этикетку Вадик. – Запомни, Виви. Сингл молт фаундерз прайвэт селла. Лучший английский виски. Из Норфолка. Вообще весь лучший виски – из Норфолка. Прайвэт селла – значит, частный погреб. Это виски из частного погреба, из Норфолка.
Вероника кивала.
– Ты знаешь, где находится Норфолк?
– В Англии? – неуверенно спросила Вероника.
– Разумеется, в Англии. Но где именно?
– Не знаю.
– А что мы делаем, когда чего-то не знаем? – улыбнулся Вадик. – Мы гуглим!
И Вероника послушно достала свой телефон, чтобы выяснить, где находится Норфолк. Она знала, что Вадик за столом обязательно попросит ее рассказать об этом.
Вадик любил учить Веронику. В самом начале их брака он пытался приблизить ее школьное среднее образование к своему, мгимошному. Но училась она плохо, запоминала только неважные мелодраматические подробности: из всей Великой Отечественной запомнила только, что героиня знаменитого стихотворения «Жди меня – и я вернусь» изменяла автору этого стихотворения с каким-то маршалом.
Вадик любил и перечитал всего Набокова – то ли потому что действительно одолел его припудренные лабиринты, то ли потому что когда-то узнал: Набоков еще ребенком был воспитан как англичанин и даже на ночь молитвы читал на английском. Вероника осилила одну «Лолиту» и запомнила из нее только фразу «скипетр моей страсти», потому что Веронике показалось забавным называть обычный мужской половой член скипетром.
О проекте
О подписке
