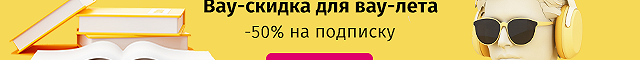
Глава вторая. Знакомьтесь – Поссумов Лог
Когда я прожила почти девять раз по три летних месяца, мой отец проникся мыслью, что он попусту растрачивает свои таланты в таком захолустье, как Бруггабронг и два Бин-Бина. И решил переселиться туда, где можно размахнуться во всю ширь.
Излагая моей маме свои доводы в пользу переезда, суть дела он представил ей так: за последние годы цены на крупный рогатый скот и лошадей настолько упали, что разведением этой скотины уже невозможно заработать на жизнь. Единственным ходким товаром остаются овцы, но пасти их в Бруггабронге и в Бин-Бинах нечего и думать. Их поголовье живо проредят динго, а что останется, растащит ворье – глазом моргнуть не успеешь. В полицию заявлять – себе дороже. Копы воров к ногтю не прижмут, а попытаются, так только разозлят, и те обрушат свою злобу на жалобщика. В результате – не сомневайтесь – все заборы вокруг ранчо будут сожжены, а лишиться более чем сотни миль тяжелых бревенчатых ограждений в такой неспокойной местности, как Бруггабронг, – это, если вдуматься, сущий кошмар.
Вот такими правдоподобными красками отец расписывал свое стремление к переезду. А если серьезно, на него наложила свою клешню злющая старая карга – неудовлетворенность. Гости ему до хрипоты талдычили, что он себя губит и хоронит в буераках Тимлинбилли. Человек такого ума, да еще с таким несравненным опытом животновода, твердили они, способен сделать себе имя и состояние в мире аукционной торговли – было бы желание попробовать. Вскоре Ричард Мелвин тоже проникся этой мыслью и решил попробовать.
Забросив Бруггабронг, Бин-Бин-Ист и Бин-Бин-Уэст, отец прикупил Поссумов Лог, небольшое ранчо площадью в тысячу акров, и перевез нас всех на новое место жительства близ Гоулберна. Туда мы прибыли осенним вечером. Отец с матерью и детьми – в двуколке, а я и кухарка, сопровождавшая нас в дороге, – верхом. На новом месте нас поджидал единственный мужчина, которого отец оставил у себя на службе. Тот приехал заранее, на подводе с мебелью и пожитками – это все, что сохранил отец из семейного имущества. Только на первое время: сперва обосноваться надо, а уж после к покупкам приступать, говорил он. Десять лет минуло, а у нас другой мебели как не было, так и нет – еле-еле обходимся тем, что нажито.
Моим первым впечатлением от Поссумова Лога было горькое разочарование; даже время не смогло его развеять или хотя бы смягчить.
Каким же плоским, обыденным и скучным выглядел тот край после отрогов Тимлинбилли!
Наш новый дом представлял собой десятикомнатную деревянную постройку на бесплодном косогоре. За отдельно стоящей кухней теснились на буграх кривые, чахлые камедные деревца и каучуконосы, пробивался подлесок из черемухи, хмеля и гибридной мимозы. Вдали от фасада дома виднелись ровные участки, вроде бы обработанные, но никаких водоемов не было и в помине. Через некоторое время мы обнаружили на равнине несколько круглых, глубоких, заросших сорняками лужиц, которые в дождливый сезон объединялись в поток, сносивший все на своем пути. Поссумов Лог, одно из немногих прилично орошаемых мест в округе, способен выдержать даже самую жестокую засуху. Опыт и знания открыли нам глаза на истинную ценность здешней прозрачной и удивительно мягкой воды. Впрочем, приехав сюда с гор, где каждую ложбину пересекала кристально-чистая речушка, мы на первых порах брезговали пить местную воду.
На новых угодьях было не разгуляться. В самом широком месте они достигали всего трех миль. Неужто мне было на роду написано всегда, всегда, всегда обретаться в этих краях и никогда, никогда, никогда не возвращаться в Бруггабронг? Когда я в день приезда, захлебываясь слезами, легла спать на новом месте, тоска давила на меня тяжким грузом.
Мама сомневалась, что усилиями ее мужа наша семья сможет прокормиться с одной тысячи акров, ведь на половине этой территории стали бы пастись разве что мелкие кенгуру, но у отца были грандиозные планы и весьма оптимистичные виды на будущее. В отличие от местных бахвалов, он не собирался сидеть на месте, как кура на насесте. В его намерения входила торговля скотом, а Поссумов Лог вплоть до его продажи должен был служить всего лишь местом совершения сделок.
Боже милостивый! Страшно подумать: большую часть своей жизни он пустил на ветер в отрогах гор, куда почту доставляют раз в неделю, а до ближайшего городишки с населением в шестьсот пятьдесят душ тащиться сорок шесть миль. Причем по бездорожью. А здесь-то город всего в семнадцати милях, да не какой-нибудь, а Гоулберн, шоссе прекрасные, доставка почты через день, до железнодорожной платформы рукой подать – восемь миль, вот же он, счастливый жребий! Такие чувства рождались в его сердце, полном надежд.
Перед тем как в Бруггабронге организовали прииск, наш ближайший сосед (объездчики не в счет) жил в семнадцати милях от нас. Поссумов Лог был густонаселенной местностью, и до окрестных домов было от полумили до двух-трех миль. Для нас это было внове; достоинства и недостатки такого расположения мы осознали не сразу. Если нам требовалась какая-нибудь утварь, она всегда была под рукой, а у наших соседей дело обстояло совершенно иначе: они вечно брали у нас что-нибудь взаймы и в большинстве случаев не возвращали.
Глава третья. Безжизненная жизнь
Поссумов Лог загнивал – загнивал исподволь, как бывает со старыми поселениями.
Люди там обитали преимущественно семейные, с детьми до шестнадцати лет. Мальчики по мере взросления осваивали необжитые районы, становясь стригалями, гуртовщиками или земледельцами. Жизнь в родных краях казалась им чересчур тягучей, а кроме всего прочего, по достижении зрелости им становилось тесно в родительском доме.
Там никогда ничего не происходило. Время не играло роли; дни, отличаясь один от другого только названиями, незаметно соскальзывали в реку лет. Рождение и смерть вырастали до масштабов значительных событий, а самым значительным из всех становился приезд нового поселенца.
Когда такое случалось, отцы семейств по традиции собирались вместе для ознакомительного визита, чтобы решить, достойны ли вновь прибывшие быть принятыми в лоно местного общества. Если вердикт оказывался положительным, то церемония посвящения завершалась дружеским визитом жен.
По прибытии в Поссумов Лог мой отец с головой ушел в дела и часто бывал в разъездах, так что все муки приема визитеров, как мужского, так и женского пола, легли на мамины плечи.
Мужчины держались открыто, добродушно, уважительно, как и подобало простым фермерам-бушменам. Дружелюбие не позволяло им свернуть визит: они пришли – и сидели час за часом, отпуская какие-то фразы ни о чем. Моя бедная мать утомилась донельзя. Ее попытки вовлечь их в беседы о современной литературе и текущих событиях ни к чему не приводили. В такие моменты она словно бы переходила на французский язык.
Час за часом продолжались разговоры о надоях молока, перемежаемые бессмысленными, ни к селу ни к городу россказнями о человеке, который прежде занимал этом дом. Я совсем заскучала.
После животрепещущих историй из жизни на больших станциях в глубинке, после устрашающих рассказов о змеях, слышанных от наших кухарок в Бруггабронге, после случаев из африканской охоты, путешествий и светской жизни, которыми зачастую обменивались наши гости, меня угнетало бесконечное пережевывание цен на фермерскую продукцию и видов на урожай.
Эти мужчины, как и все местные жители, говорили только о рыночных делах. Нет, я этого не осуждаю, но просто хочу уточнить: в ту пору это нас совершенно не занимало, поскольку рынок был от нас очень далек.
Судя по всему, миссис Мелвин снискала благосклонность этих венцов творения, населявших Поссумов Лог: все тамошние матери семейств, поспешив наведаться к ней в гости, наперебой выказывали дружеское расположение и любезность. Явились они не с пустыми руками: принесли домашнюю птицу, варенье, масло и всякую всячину. Пришли к двум часам и засиделись до темноты. Произвели ревизию мебели, надавали маме кучу рецептов, подробно описали непревзойденные таланты каждого из своих отпрысков и многословно обсудили лучший способ посадить индюшку на яйца. Уходя, они сердечно приглашали нас посетить их с ответным визитом и просили маму, чтобы та отпустила к ним на день своих ребятишек – пусть поиграют все вместе.
Не прошло и месяца, как мои родители получили уведомление от учителя государственной школы, что в двух милях от нас: он сообщал, что по закону они должны определить своих детей на учебу. Мама невероятно расстроилась. Что ей было делать?
– Что делать, что делать! Не тяни, собирай ребятню в школу, вот что, – сказал отец.
Мама заспорила. Она предложила нанять гувернантку, а со временем подыскать хорошую школу-интернат. До нее доходили жуткие истории об этих государственных школах! Мыслимое ли дело – отдать своих любимых малюток в такое заведение; да их там загубят через неделю!
– Наших не загубят, – сказал отец. – Пусть походят неделю-другую, в крайнем случае – с месяц. За такой срок ничего с ними не случится. А после наймем гувернантку. Тебе здоровье не позволяет сейчас заниматься поисками, а мне и вовсе не до того. У меня намечается несколько сделок, и каждая требует моего внимания. Пока суд да дело, пускай бегают в школу.
И нас отдали в школу, где мы с сестрой благодаря фартукам с оборочками и легким туфелькам сразу стали важными птицами, на голову выше прочих. Наши одноклассники в основном происходили из семей беднейших фермеров, которые вкалывали на дорожном строительстве, на перевозке пиломатериалов – в общем, не гнушались никаким приработком. Все мальчишки ходили босиком, и половина девочек тоже. Школа стояла на неухоженном, заросшем косогоре; учитель проживал и столовался у кого-то из местных жителей, в миле от места работы. Он крепко выпивал, и родители учеников со дня на день ожидали его увольнения.
Минуло без малого десять лет с тех пор, как близнецы (поступившие вслед за мной) и я начали посещать государственную школу в Тигровом Болоте. Мое образование там же и завершилось, образование близнецов – они были младше меня на одиннадцать месяцев – тоже. Сейчас мои братья и сестры друг за дружкой получают аттестаты, но это единственная школа, где нам довелось учиться, – других школ мы не знали и не видели. Было время – даже отец заговорил о том, чтобы мы написали заявления о свободном посещении уроков. Однако мама (женская гордость – кремень) этого не допустила.
С соседями нам повезло, но один, звали его Джеймс Блэкшоу, тяготел к нам более других и выказывал желание подружиться. Был он, так сказать, самопровозглашенным шейхом нашей общины. У него было правило: брать под крыло всех новоселов и всячески стараться сделать так, чтобы каждый чувствовал себя как дома. К нам он заходил ежедневно: на заднем дворе привязывал свою лошадь к штакетнику забора в тени раскидистой ивы и, когда знал, что наша мама его не видит, мог битый час трепаться с кухаркой Джейн Хейзлип.
Как и я, Джейн терпеть не могла Поссумов Лог. Но свое чувство она облекала в более определенную форму, а потому забавно было послушать неприкрытые суждения, которыми она делилась с мистером Блэкшоу; про него самого, между прочим, она говорила: «Не парень, а курица на яйцах».
– Сдается мне, Джейн, здесь, близ Гоулберна, тебе живется веселей, чем в том захолустье, откуда ты приехала, – изрек он как-то утром, раскинувшись на просиженном диване у нас в кухне.
– Надо ж такое сказануть! «Захолустье»! Да у нас в Бруггабронге жизнь ключом била – за один день поболее событий случалось, чем тут у вас, канительщиков, за всю вашу жизнь, – горячилась она, яростно замешивая опару для хлеба. – В Бругге, считай, каждую неделю праздник был. В субботу вечером вся округа к нам в дом стекалась – насчет почты справиться. До вечера воскресенья гостьба не кончалась. И мясники, и объездчики, и шкуродеры – кого только к нам не заносило. Один на гармонике наяривает, другие пляшут. Веселились до упаду. Девушки хошь по кругу летали, хошь одного-двух кавалеров себе присматривали, а тут что? – Она презрительно фыркала. – Ни одного стоящего парня, с кем замутить не стыдно. Я тутошней жизнью сыта по горло. Жаль, обещалась хозяйке помочь на первых порах, а иначе прям завтра б отсюда сдернула. Хуже дыры, чем эта, в жизни не видала.
– Со временем пообвыкнешься, – увещевал Блэкшоу.
– Как же, пообвыкнешься тут! Чай, не курой высижены, чтоб в такой дыре прозябать.
– Уж тебя-то определенно не кура высидела, ну, разве что брама-гигант[5], – отвечал он, оценивая пышность девичьей фигуры, пока Джейн снимала с огня пару тяжелых горшков. Свою помощь он не предлагал. Такой этикет был выше его понимания. – Ты ведь из дому ни ногой, вот и маешься от скуки, – заключил Блэкшоу, когда она опустила горшки на пол.
– Из дому ни ногой! Подсказали бы: куда мне ходить-то?
– Будет время – наведайся еще разок к моей супруге. Для тебя двери всегда открыты.
– Спасибочки, только супружницей вашей я с прошлого раза по горло сыта.
– То есть как?
– С полчаса посидели, а она вдруг: пора, мол, белье с веревки сымать да на дойку идти. И мужики местные не по мне. У вас тут женщины вкалывают как проклятые. Таких усталых, измотанных теток еще поди найди. Помнится, у меня времечка полно было, когда черные парни аборигенкам все подсобную работу поручали. Да у нас в Бруггабронге женщины только в доме хозяйничали, а ежели переламывались, то лишь когда все мужики на выезде были: ежели где пожар или тревога какая. А тут все работы на женские плечи взваливают. То на дойку ступай, то поросятам отходы неси, то за телятами смотри. Прям тошно делается. Уж не знаю, почему так повелось: то ли мужики еле шевелятся, то ли все силы на молочное хозяйство брошены. А оно не по мне: горбатишься, надрываешься, моешь-скоблишь с утра до ночи, покуда зенки не вылезут, – и кто это ценит? А теперь не откажите в любезности, мистер Блэкшоу, извините-подвиньтесь куда-нибудь на пару минут. Мне под диваном подместь надо.
Задерживаться после этого он не стал. Распрощался – и с глаз долой, так и не определив, позабавили его или оскорбили.
О проекте
О подписке