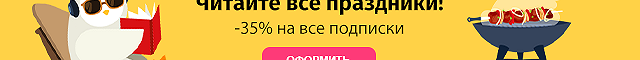
Днём поехал в Фёдоровку. Дождик так и не разошёлся, к середине дня незаметно перестал; но воздух был влажный и паркий. После парохода никакого напряжения у школы, что вот выйдет, вот увижу, – растравлен дыханием той действительности… Кроме того, столько хождений который день подряд – это уже, уже утомляло. Утомляло и душевно. Все эти поездки к школам и выстаивания на карауле, а затем поиски школ тольяттинских всё более испытывали на выносливость, а надежда с огня – может, вот сейчас увижу! – истлевала в однообразии и привычке внешних действий.
В этот день я вернулся раньше обычного, никуда больше не поехал… Сегодня как будто призрак того утра явился мне и это повернуло меня душою. Да, для будущих исканий мне надо знать школы в Тольятти, это исходное условие успеха, – но важнее, куда важнее не потерять за внешними усилиями то истинное чувство её, которое, пожалуй, впервые буквально воскресло во мне от зрительного попадания в то утро потери. И отстранясь от рысканий по городу, сейчас для меня просто невозможных, я решил в этот удлинённый вечер дать душевный выход в себя. Я гулял по набережной, заходил в здание вокзала, смотрел на расписание всех наших стоянок и вспоминал, как это было тогда; снова прогуливался. Потом сел на скамейку у цветника набережной, перед понтонным причалом местных судов, в стороне от основных.
Утреннее напоминание томило. Всё, что получилось и удаётся делать, стало как бы заданным, далёкой придуманной программой; а то, что она в такое же вот утро у меня на глазах ходила по пароходу – это непостижимое только сегодня вошло в меня призраком реально бывшего и подтвердило память: да, было! Вот примерно на этом расстоянии от причала, как сидел сейчас я, был наш подходивший пароход, когда я стоял в пролёте, ещё до переполоха, и смотрел ей в спину – так, что она обернулась. Если б она тогда скрепилась, не повернула головы! Этот момент мучительней всех других застрял во мне. Меня звал, был всё время передо мной в Москве между поездками и бередил тот последний взгляд её.
Будет ли мне свет – увидеть её?..
Я глядел в сумрачную мглистую тишь той, горной стороны, где за ГЭС едва померкивали между тёмными силуэтами гор огни Жигулёвска, и обратил внимание на яркую и продолжительную кварцевую вспышку на склоне горы Могутовой. «Сварка, что ли? – удивился. – Что это, до сих пор работают?» Через некоторое время вспышка повторилась, но теперь вроде смещённо и вроде уже не на склоне горы, а ближе, в пространстве. Усугубляясь этими вспышками, назревала чем-то подозрительная тьма; внезапной волной холодно взветрило – тоже показалось неспроста. И это возбуждало щекотную весёлость и задор. Пусть будет что будет и сегодня со всей округой, и все эти дни со мной, – а сейчас я уйду в тепло, в благодушие здешних своих вечеров: устроюсь поудобней на кровати с чаем, с книгой, и уж чего там будет больше – чтения, или её в эти часы перед сном, – но будет чудесно… А с судьбой нам надо отдохнуть друг от друга – до завтра.
Часы перед сном у меня вышли действительно хороши; я и не вспоминал о том, что творилось за стенами гостиницы. Только когда услыхал глухой далеко дробящийся шум, как будто обвал, тут же вспомнилась и вспышка в горах – э, то была не сварка, и темнота недаром странно мутилась. Теперь вспыхивало в окне уже, и всё чаще и сильнее, а вслед всё ближе и гневней погромыхивало. Всё чаще и я подстрекающе весело взглядывал на окно и слушал. С приближением ночи властно приближалась гроза.
Уже когда легли и грузин, накрыв голову подушкой, чтобы ни гроза, ни включённое радио ему не мешали, тут же заснул, а ещё подселённый накануне – обходительно-разговорчивый шофёр из Ленинграда – погасил свою настольную лампу и, привернув звук, дослушивал последние известия, сам тоже засыпая, – она подошла. Я смотрел как нервная тьма окна непрестанно конвульсировала страшными вспышками и даже не успевал ждать удара – он тут же вспарывал тишину арбузным треском и всёсодрогающим грохотаньем. Казалось, небо раскраивается по швам на гранёные глыбы и они лавиной укатываются, грузно подпрыгивая, дробясь и заваливаясь вдали. Удары то обрушивались сплошной цепью, перекрывая один другой, то запальчиво перекликались с дальними, умолкающими. В ожидании особенно сильных для слуха приходилось всё время быть наготове, каждый раз невольно съёживаясь. Дождь вроде шёл и не шёл – наконец, разрешилось: хлынул потопный ливень.
А по радио, которое забыл выключить уже похрапывающий ленинградец, начался ночной концерт – ансамбль скрипок заиграл 24-й каприс Паганини. Сквозь помехи грозы броско и решительно пошла тема, вступая в сраженье с шумовой оргией. Молнии рвали через эфир упругую дерзкую плоть мелодии, но мелодия продиралась в хрипах динамика всё экспрессивней, с виртуозной удалью. Захваченный этим неистовым поединком музыки и грозы, я смотрел, как из тьмы поминутно слепяще бросалось в глаза окно – бесноватые молнии плясали вокруг гостиницы, норовя попасть в неё, восстающую музыкой. И всё это: и раскаты грома, и бурно шипящий фон ливня, и деловитое плотное журчанье потока под окном, и блистанье молний, и, наконец, эта музыка, даже царапающие её хрипы, – всё сообща словно показывало нам, людям, единое и вечное действо, которого мы искони есть фатальные участники, но спим, спим… и не знаем, – а это над нами, это – о нас. Мне нечаянно, потому что я ещё не заснул, увиделась, а несравнимо полней услышалась целая драма всей жизни так величественно и могуче, как может явить только сама природа, таящая в себе все средства, все связи. И я, дрожа в лихорадке душевной возбуждённости, я мог лишь с детским восторгом бессильно повторять: спасибо, спасибо, спасибо…
Каприс Паганини закончился, и я встал и выключил приёмник. Центр грозы уходил, гром бубнил уже в стороне, уже реже белесо взмигивало окно, но ливень не стихал. Его полновесный шум и частая ритмичная капель по жестяному карнизу окна снимали возбуждённость и убаюкивали. Стало как-то утешенно и безмятежно-прочно ощущать себя в мире, таком сейчас родном первой чистотой ранних, давно забытых впечатлений. Теперь надо поскорей заснуть – завтра снова к очередной школе, независимо от погоды. «И она, может быть, слышала эту грозу, не спала. Мы через природу единимся, живя одними явлениями, – воображал я радостно. – Уже одно это… Чувствует ли она?, но не подозревает… каждый день…»
Утром первый взгляд мой был к окну – в нём светлеюще чисто синело. День готовился хорошо. Всё ночное буйство будто только приснилось. Я сразу вспомнил мысль, на которой вчера заснул: да, в самом деле, чувствует ли она смутное беспокойство, или хоть какое-то внутреннее напряжение от чьей-то посторонней, каждый день неотступно обращенной к ней волевой деятельности? Сказывается ли как-то на её состоянии ей, конечно, совершенно неведомое, но что носится над ней: что со дня на день может случиться наша встреча? Помню, и в первый приезд меня занимала подобная мысль. Так хотелось верить сейчас, что есть, есть эта таинственная связь, эта некая зависимость.
Итак, сегодня – Жигулёвск. Вышел – асфальт местами ещё сырой от потоков, кое-где лужицы. Утро забирало холодом, только в автобусе, стиснутый со всех сторон едущими на работу, я скоро согрелся.
Встал перед школой, намеченной на утро. Шли ещё с ленцой, самые первые… Да, вот здесь, в этом маленьком уютном Жигулёвске, она – могла бы жить, опять так ясно и тепло всё здесь окликалось душе. Вот они тут и Жигули, у их подножья вся здешняя жизнь, и вернее пахнет близостью Волги – Волги, а не водохранилища. Да и сам городок такой: кажется, раз обойдёшь и уж всё тут вроде своё, как будто давно знакомое. Тут могла бы она быть! А я и здесь не испытывал того взвинчивающего ожидания, привычка ль вправду усыпила сердце. Но от неловкости наблюдательного своего присутствия освободиться так-таки и не мог, вот не привыкалось… Повторилась обычная картина, после которой всякий раз я с удовлетворением, хотя и всё более отвлечённо и спокойно, отмечал, что вот – от сонных одиночек до общего бодрого хода, и уже последних, бегущих под звонок, – мне продемонстрированы все школьники первой смены, и в какой-то вообще из таких «демонстраций» неминуемо на глаза попадётся она. Это принималось с гарантией точного математического расчёта, в котором умом я был уверен, умом… души не хватало.
Так, с лёгкостью зачеркнул я и эту школу. Дожидаться последних уроков утренней смены пошёл к другой поближе, намеченной на сегодня, – в опрятный тихий скверик за трибунами центральной площади.
Развивался мягкий солнечный день. Клумба в середине скверика, вчерашней грозой ли напоена, огнилась ярко-бордовой шапкой пионов, а желтеющие кусты и деревья по бокам аллеи словно в старческом забытьи отпускали на землю по листочку, – не вдохнулся в них ночью последний жадный прилив жизни. Я сел в глубине сквера на солнечной стороне аллеи, где скамейки уже подсохли. Слегка даже пригревало. И так беззаботно о чём-то скользя думалось, мнилось, миротворно гляделось вокруг, и в себя.
Прозвенел звонок пронзительно на всю улочку, прилегающую к скверу, из-за угла дома высыпали на переменку крупные жеманно-озорные девчонки, старшеклассницы, все в одинаково черно-коричневой форме: прохаживаются под ручку прямо по мостовой, некоторые побежали на угол площади, возвращаются с мороженым. Невольно вглядываюсь, тоже уж привычка. В сквер ворвались ребята, захватили скамейку напротив меня через цветник, спихивают друг друга, усаживаясь на спинку, ногами на сиденье, гомоня закуривают. Всплеснулся покой: возня, смех, перебранка. Ещё вышли к цветнику в начале аллеи отдельно три девчонки – одна, самая рослая и интересная, с игривой улыбкой открывает фотоаппарат, налаживает.
– Дала щёлкнуть! – цепляет кто поближе со скамейки.
– Перебьёшься! – не глядя бросает она.
– Ух ты, стервь!
– Да она не знает, куда смотреть, – подкалывает другой.
– Держишь-то кверх ногами, ху-ху ха-ха!
– Так задумано! – с презрительной гримасой к ним.
– Твой, что ль, агрегат?
– А он настоящий? Даёт картинку?
– Спокуха! Да! – выпаливает, потеряв терпение, и все трое отходят в сторону, с этими оглоедами разве поснимаешь.
Но опять звонок – бегут обратно, ребята с улюлюканьем за девчонками, те с визгом от них; кто и не торопится – подумаешь, опоздаем!.. И снова прибирается тишина. Правда, ненадолго: ведут на прогулку детвору из детского сада. Скверик оглашается звонкой разноголосицей пестроцветной толпы маленьких человечков, слышатся организующие возгласы воспитательницы. Молодая женщина, подводит свою паству к клумбе, что-то рассказывает, поводя рукой на цветы; затем даётся детям свобода играть на дорожках и они разбредаются, снова наполняя сквер щебетливым гамом.
Я достал тетрадку – ещё поизучать, что из школ осталось и где, у каких стоять завтра. Потом мысли на Тольятти: сегодня снова ехать туда, прочёсывать улицы и дворы, снова улицы и дворы… улицы, дворы… На грани уже забытья слышу за своей скамейкой радостно сообщительный голос девчурки:
– Слушай, Марин! Красота – красота, – залог здоровья.
Умная твоя головка, кто это так в тебя заронил?
– Дети, дети! По сырой траве не ходить! – тут же взрослый окрик. – Играйте на аллее! Марина, Лена!
Упорхнули со смешком. Оглядываюсь удивлённо вслед. Уже по дорожке, держа в руках букетиками жёлтые и красноватые листья, уходили от меня две подружки в мокрых по щиколотку, ярких чулках, в коротеньких платьицах. Которая же из них Лена?.. Вскоре воспитательница построила детей парами и повела к площади.
Я сидел, расслабясь на ласковом солнце, и думал, что вот и скверик этот уж не забуду. В моём паломничестве к ней вообще больше суеты движений, да и суеты мыслей. Только вечерами отдых на набережной, у причала, – когда мысль очищается и осветляется. А здесь вот кажется и невозможной суета. Как-то особенно мне было здесь уютно, отдохновенно…
Но настало время идти. Сюда я ещё обязательно вернусь (ведь завтра – опять в Жигулёвске), а сейчас пора к школе. Она была рядом: обогнул Дворец культуры «Гидростроитель», пересёк небольшую площадь перед ним и на углу двух тенистых, почти под сомкнутыми кронами, улиц вот оно, за изгородью среди кустов, – старое, двухэтажное жёлтое здание. Тут же на углу как раз и автобусная остановка – стоять здесь будет естественно, – и от неё хорошо просматривается чуть в глубине улицы калитка. Этот уголок Жигулёвска был уже немного в стороне от городского, и так-то очень слабого, движения и оттого ещё тише, ещё спокойнее дремал себе: когда-когда завернёт сюда по маршруту старообразный какой-то автобус – отфыркивается, отпыхивается не спеша на стоянке – и снова сворачивает к улицам полюднее. Я то стоял, то прохаживался взад-вперёд в рассеянном ожидании конца урока, порой машинально озирался по сторонам, – и так по душе опять пришлось мне и на этом пятачке, так благостило забыто безмятежным, от всего хранящим уютом детства, что было жаль, да, жаль до грусти, что уже и эта школа вычеркивается – с пятого урока проверил, вот-вот кончится шестой. Онемелая надежда моя, как и у школы утренней, почти не пробивалась волненьем в настоящие минуты, – когда-то потом, в неясности будущего, мыслилось её усыплённое осуществление. Но покидать этот благословенный уголок не хотелось. Здесь бы вот жить да жить!
Солнце вольно висело над крышей Дворца культуры и поливало пустынную площадь белым тёплым светом, даже припекало. Тихо, на перевале замер день… Какое-то время я стоял что-то задумавшись, потом очнулся с непроизвольным вскидом головы на площадь и увидел единственно двух совсем молоденьких девушек, вернее девочек, идущих в мою сторону. Меня вдруг затрясло всего – ОНА!!! Она, она, она, она! Конечно, она! Вот, вот она, надо же! Идёт через залитую солнцем площадь прямо на меня та самая девочка – та! пароходная! – только в светлом голубыми цветочками лёгком платьице. Её лицо! Незабвенное её такое лицо – неужели вновь вижу эти черты? и каштановые длинно-вьющиеся волосы! и хрупкую её фигурку! – смотрю, смотрю неотрывно. И глаза ли, выражение ли такое было у меня, то ли и она узнала – и она шла и смотрела на меня. Боже, какое это было чудное, поразительное виденье! Как только они приблизились и она, идя с моей стороны, всё не сводила с меня глаз – а уже сейчас пройдут, – я с усилием шагнул к ней:
– Здравствуйте!
Она живо отступила за толстую, повыше её, подругу.
– Я вас не знаю! Что вам надо? – проговорила так быстро, нервно-звонко.
– Как же… а тогда… мы плыли на одном пароходе, помните?
– А-а… – смягчённо едва вырвалось у неё и в этом звуке мне показалось что-то откликнувшееся, узнающее. Да, она узнала.
– Ну и что же? – опять взвинченным тоном.
– Да нет, я… хотел просто… поговорить с вами.
– О чём говорить?.. Говорите. – В каждом её слове напряжение, почти враждебность.
Мы шли по тихой пологой улочке мимо школы, уже ненужной (уже все ненужные), я пытался перейти на её сторону, но она всё перебегала за подругу. Получалось, я к ней вроде приставал, как какой-нибудь пьяный, или просто развязный тип. Говорить, всё объяснять при этой ухмыляющейся толстухе?
– Можно вас на минутку? Я это… наедине…
– Еще чего! Говорите здесь, что хотели… Да нам не о чем говорить. Отстаньте!
Она казалась испуганным зверьком, который огрызается на протянутую руку. Я всё больше терялся, чувствовал, что что бы ни сказал – глухая оборона, непробиваемо. Да и вообще ничего похожего, ничего! Меня охватила слабость, нить рвалась. Я как приговорённый, заминая страшное, спросил, чтобы только не молчать:
– Вы ведь в восьмом классе учитесь?
Она усмехнулась подруге:
– Ну в восьмом. Как это вы догадались?
– Действительно, на нас не написано, – иронически подхватила подруга странно зрелым для её возраста голосом.
– Да так… это не сложно… Просто угадал.
– Ах, угада-ал! Может, вы угадаете, куда мы идём? – с ухмылкой обращаясь больше к ней, опять куснула всё уже оценившая и осмелевшая подруга.
– Да, и где живём, ещё скажете? – вторила насмешливо она.
– Нет, этого я не знаю, – примирительно сказал я. «Да, всё, крах! С ума сойти!»
– Ну, мы пришли. Дальше за нами не ходите! – снова категорически прозвенел её голос. Они свернули в короткий переулок. Я всё за ними, совсем растерялся:
– Да подождите же… так нельзя… Мне надо кое-что сказать вам, ну на минутку… я прошу!
Невольно ли на слова мои, на интонацию – она задержалась, сторонясь. Подруга отошла.
– Ну говорите, чего… Не уходи, – подруге. – Быстрей только! Мы спешим.
– Вы знаете… я искал вас… я приехал сюда, чтоб найти вас… Вы так неожиданно тогда сошли с парохода…
– Ну и что! Зачем вы меня искали?
– Как зачем?.. – опешил я. – Это получилось так неожиданно тогда… а я… ну, в общем, я не хотел вас терять и… ну, решил найти вас («не то! не так!»). Может быть… м-можно нам с вами встретиться?
– Нет, нельзя! Этого не хватало! Я не встречаюсь… И вообще, больше не ищите меня и не караульте!
– Почему? – глупо спросил я.
– Вы взрослый человек – поймёте! – жёстко отрезала она, взглянув в упор, и я словно ткнулся в стену и увидел, что на этом – точка.
Она пошла. Всё рвалось… я беспамятно, в отчаянии – за ней, хватаюсь за воздух:
– Как хоть зовут вас?!
– Всё-всё! Вам незачем это. Уходите! Я пошла. – Она словно вырвалась – и побежала к подруге, тряся тёмной гущей волос…
Не помню как – снова в скверике, на той же скамейке. Согнувшись и задыхаясь спазмами. И ничего не понимая. Как это… что?.. Почему? – билось в голове и только свинцовела она, туманилась. Не соединялось у меня: та, пароходная, – и эта… при одной внешности! Никак. Никогда, видимо, я эту метаморфозу не смогу себе объяснить. Но одно я понял: её – я не нашёл. И уже не найду. Все земные усилия здесь…
Понемногу далось успокоиться, я больше не разрывался от всхлипов, но сами тихие сочились из глаз. И знакомая жжёность горечи вновь разъедала, уж не заглушить. Постепенно же зрело великое примирение с тем, что оказалось… встаки невозможно, невозможно. И – какое-то, вопреки тому, что ли, – горестное бессильное удовлетворение, что всё же увидел, ещё увидел. Ну… что ж, – такую.
А оставлю и возьму с собой, чего уж никто и ничто не исказит, не отнимет, – тот образ девочки с парохода.
1976–1979, 2002
М. Ларионов
О проекте
О подписке
Другие проекты