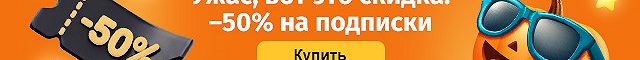
Кирби
18 июля 1974
Раннее утро опускается на землю тяжелыми, темными сумерками; это странное время – последние электрички давно уже перестали ходить, дороги опустели, но птицы еще не начали петь. Ночь дышит жаром. От душного влажного воздуха на улице полно насекомых: мотыльки и мошки выстукивают неровную дробь о фонарь на крыльце; где-то под потолком тонко пищит комар.
Кирби лежит в кровати, поглаживая нейлоновую гриву лошадки, и вслушивается в стоны пустого дома. Он урчит, словно голодный желудок, – «утихомиривается», как говорит мама. Но мамы нет дома. На улице стоит глубокая ночь, – или раннее утро, – а Кирби не ела ничего с прошлого завтрака, который состоял из застарелых кукурузных хлопьев, и в стонах дома нет ничего тихого или мирного.
– Он просто старый. Ветер гуляет, наверное, – шепчет Кирби лошадке. Но входная дверь хлопает, хотя заперта на засов. И пол скрипит, словно к Кирби крадется грабитель с большим черным мешком, в который он ее засунет. А может, и не грабитель. Может, это ожившая кукла из того страшного фильма, который ей запрещали смотреть, перебирает по полу своими пластиковыми ножками.
Кирби выбирается из-под одеяла.
– Я пойду проверю, хорошо? – говорит она лошадке, потому что не может просто лежать и ждать, пока к ней придет жуткий монстр. Дверь в ее комнату расписана причудливыми цветами и переплетающимися виноградными лозами – мама Кирби разрисовала ее четыре месяца назад, когда они только въехали в дом. Кирби приближается к ней на цыпочках; она не знает, кто – или что – поднимается по лестнице, но она готова обороняться.
Прячась за дверью, как за щитом, она вслушивается в ночь, ковыряя ногтем шершавую краску. Она уже ободрала тигровую лилию до голого дерева. Кончики пальцев покалывает. Тишина звоном отдается в ушах.
– Рэйчел? – шепчет Кирби, совсем тихо, так, что слышит ее только лошадка.
Где-то совсем рядом раздается глухой стук, а потом грохот и звон разбитого стекла.
– Черт!
– Рэйчел? – громче повторяет Кирби. Сердце грохочет в груди, как ранняя электричка.
На мгновение воцаряется тишина. А потом раздается голос мамы:
– Иди спать, Кирби, все хорошо.
Кирби знает, что она врет. Но она хотя бы не Говорящая Тина, живая кукла-убийца.
Оставив в покое слезающую краску, она выходит в коридор, обходя осколки разбитой вазы. Среди увядших роз, плавающих в пованивающей воде измятыми лепестками и сморщенными бутонами, они блестят как алмазы. Мама оставила дверь приоткрытой.
С каждым новым переездом дома становятся все хуже и хуже. Их старость не скрыть даже за рисунками, которыми Рэйчел украшает шкафы, двери и даже пол, словно показывая: этот дом теперь их. Рисунки они с Кирби выбирают из большого серого графического альбома: там полно тигров, единорогов, ангелов и загорелых островитянок с цветами в волосах. По этим картинкам Кирби отличает один дом от другого. Здесь, например, на кухонном шкафчике над плитой нарисованы расплавленные часы, а значит, слева от них стоит холодильник, а ванная прячется под лестницей. Все дома отличаются друг от друга. Иногда в них есть сад, иногда у Кирби появляется собственный шкаф – иногда даже полки, если ей повезет, – и лишь одно остается неизменным: комната Рэйчел.
Про себя Кирби называет ее пиратской бухтой сокровищ. (Мама говорит, что пираты закапывают клады, а не хранят сокровища в бухтах, но это не мешает Кирби представлять волшебный потаенный залив, куда можно приплыть на большом корабле – но только если тебе повезет, только если под рукой окажется подходящая карта.)
По комнате разбросаны платья и шарфы, словно в ней закатила истерику вспыльчивая пиратская принцесса. На золотистых завитушках большого овального зеркала болтается разная бижутерия. Его Рэйчел всегда вешает в первую очередь после переезда, обязательно ударив молотком палец. Иногда они с Кирби играют в переодевалки, и Рэйчел наряжает ее в целую гору браслетов и ожерелий, а потом говорит, что она похожа на рождественскую елку – хотя они наполовину евреи, а те не празднуют Рождество.
Над окном висит украшение из цветного стекла. Днем, когда в окно светит солнце, его радужные блики пляшут по всей комнате, забираясь даже на стол для рисования и иллюстрации, над которыми Рэйчел работает.
Когда Кирби была совсем маленькой и они еще жили в городе, Рэйчел устанавливала вокруг стола ограду, чтобы Кирби спокойно ползала по комнате и не мешала. Раньше она рисовала для женских журналов, а сейчас «мой стиль никому больше не нужен, малышка, мода – дама капризная». Слово «дама» очень забавное. Оно нравится Кирби. Дама-рама-мама-мадама. А еще ей нравится подмигивающая официантка с двумя тарелками масляных блинчиков в руках, которую мама нарисовала для блинной «У Дорис» недалеко от магазинчика на углу.
Но сейчас радужное украшение холодно и мертво тускнеет, на лампе висит небрежно сброшенный желтый шарф, и во всей комнате царит уныние. Рэйчел лежит на кровати, закрыв лицо подушкой. Она даже не разделась – не сняла ни туфли, ни платье, и под черной кружевной тканью ее грудь часто подергивается, как от икоты. Кирби останавливается на пороге, но мама не замечает ее. Хочется что-то сказать, но нужные слова не приходят.
– Ты в обуви на кровати, – наконец выдавливает она хоть что-то.
Рэйчел убирает подушку в сторону и смотрит на дочь красными от слез глазами. От потекшей туши на ткани чернеет пятно.
– Прости, солнышко, – говорит Рэйчел. Почти что щебечет. (Почему-то это слово напоминает Кирби другое. «Щербатый». Как зубы Мелани Оттесен, когда та свалилась с каната. Как треснутые стаканы, из которых опасно пить.)
– Нужно разуться!
– Знаю, солнце, – вздыхает Рэйчел. – Не кричи.
Она поддевает ремешки носками черно-коричневых туфель, а потом сбрасывает их на пол. Перекатывается на живот.
– Почешешь мне спинку?
Кирби забирается на кровать и садится рядом, скрестив ноги. Мамины волосы пахнут сигаретами. Она проводит по тонкому кружеву платья кончиками ногтей.
– Почему ты плачешь?
– Я не плачу.
– Нет, плачешь.
Мама вздыхает.
– Раз в месяц с женщинами такое случается.
– Ты всегда так говоришь, – дуется Кирби, а потом, словно между прочим, добавляет: – А у меня есть лошадка.
– У меня денег не хватит купить тебе лошадку, – сонно произносит Рэйчел.
– Да нет, у меня она уже есть, – закатывая глаза, поясняет ей Кирби. – Оранжевая. У нее бабочки на боках, карие глаза и золотая грива, и она, эм, она немножко дурацкая.
Мама беспокойно оглядывается на нее через плечо.
– Кирби! Ты ее что, украла?
– Нет! Мне ее подарили. Хотя я не просила.
– Ну ладно. – Мама потирает глаза ладонью, размазывая тушь. Так она выглядит как разбойница.
– Так мне можно ее оставить?
– Конечно. Тебе все можно. Ну, почти. А с подарками делай все, что захочешь. Хоть ломай или бей на кусочки.
«Прямо как вазу в коридоре», – думает Кирби.
– Хорошо, – серьезно отвечает она. – У тебя волосы странно пахнут.
– Кто бы говорил! – Смех мамы тоже пляшет по комнате радугой. – Ты сама-то давно голову мыла?
Харпер
22 ноября 1931
Больница Милосердия свое название не оправдывает.
– Заплатить сможете? – резко интересуется из-за стекла уставшая женщина в регистратуре. – Если да, пройдете без очереди.
– А сколько ждать? – хрипит Харпер.
Женщина кивает в сторону приемного покоя. Скамеек там нет, поэтому людям приходится стоять; только некоторые сидят, а то и лежат на полу, подкошенные болезнью, усталостью или простой скукой. Во взглядах, которые они бросают на Харпера, видны то надежда, то ярость, то зыбкая шаткая смесь всего сразу. Но некоторые смотрят смиренно – как лошади, доживающие свои последние дни. Харпер видел таких на фермах: с торчащими острыми ребрами, словно трещины в мертвой земле, по которой они тащут плуг. Таких лошадей пристреливают.
Он достает из украденного пиджака помятую пятидолларовую купюру, которую нашел в кармане вместе с булавкой, тремя монетами по десять центов и ключом, тусклым и старым. Ключ показался ему странно знакомым – может, потому, что был таким же потертым, как и он сам.
– Ну что, на милосердие хватит, хозяйка? – спрашивает он, пихая купюру в окошко.
– Да. – Она выдерживает его взгляд. Хочет показать, что ей не стыдно брать с него деньги, но своим упорством лишь доказывает обратное.
Она звонит в колокольчик, и к ним выходит медсестра, постукивая по линолеуму широкими каблучками удобных туфель. «Э. Кэппел», судя по бейджику. Простушка, но симпатичная: с розовыми щеками и аккуратными каштановыми локонами, выглядывающими из-под белой шапочки. Только нос слишком вздернут. Как пятачок.
«Свинка», – думает Харпер.
– Идите за мной, – говорит она, не скрывая своего раздражения. Становится ясно: для нее он просто очередной отброс. Развернувшись, она быстро уходит, и Харпер кидается следом. Бедро простреливает болью на каждом шаге, но отставать он не собирается.
Палаты, мимо которых лежит их путь, забиты до отказа. Кое-где люди ютятся на кроватях по двое, лежа валетом. В воздухе пахнет болезнью.
Хотя в военных госпиталях бывало и хуже. Калеки на залитых кровью носилках, воняющие паленым мясом, гноем, дерьмом, рвотой и кислым лихорадочным потом. Вторящий им хор бесконечных мучительных стонов.
Был там парнишка из Миссури, которому оторвало ногу. Он так орал, что не давал никому спать, пока Харпер не подошел к нему, словно хотел успокоить. Но вместо этого тайком всадил придурку в раскуроченное бедро свой штык и резко дернул им вверх, перерезав артерию. Прямо как на армейских сборах, где он практиковался на соломенных чучелах. Воткнуть и повернуть. Выпусти человеку кишки – и он точно уже никуда не пойдет. Работать штыком Харперу всегда нравилось больше, чем стрелять. Так он точно знал, кого убивает. Помогало мириться с войной.
Жаль, здесь так не получится. Хотя от надоедливых пациентов можно избавиться и по-другому.
– Принесли бы им яду, – говорит Харпер, чтобы позлить пухленькую медсестру. – Они бы только спасибо сказали.
Та презрительно фыркает, открывая перед ним двери в платное крыло. Палаты тут чистенькие, рассчитанные на одного человека и в основном пустующие.
– Не искушайте. У нас тут уже не больница, а какой-то чумной двор. То тиф, то инфекции. Яд – предел мечтаний. Но только попробуйте заговорить о нем при хирургах.
В палате, мимо которой они проходят, Харпер замечает девушку, окруженную цветами. Она напоминает кинозвезду, хотя Чарли Чаплин уже давно променял Чикаго на Калифорнию, попутно забрав с собой всю киноиндустрию. Светлые кудри липнут к лицу, а в лучах бледного зимнего солнца она кажется еще бледнее, чем есть. Но когда Харпер останавливается перед дверью палаты, она приоткрывает глаза. А потом присаживается на кровати и солнечно улыбается, словно ждала его и очень даже не против немного с ним поболтать.
Сестру Кэппел такой вариант не устраивает. Она хватает его за локоть и ведет дальше.
– Хватит глазеть. Вот уж поклонников девке точно хватает.
– А кто это? – Харпер оглядывается через плечо.
– Да никто. Танцовщица. Отравилась радием, дура. Мажется им, когда выступает, чтобы светиться в темноте. Не волнуйтесь, скоро мы ее выпишем, вот тогда и насмотритесь. Во всей красе, так сказать, насколько я знаю.
Она заводит его в кабинет с белоснежными стенами, остро пахнущий антисептиком.
– Ну, садитесь. Посмотрим, что у вас тут.
Он с трудом забирается на стол для осмотра. Сестра Кэппел хмурится, разрезая грязную тряпку, которой он насколько мог туго перевязал ногу.
– Ну вы и идиот, – сообщает она. Уголки ее губ изгибаются в едва заметной усмешке: ей прекрасно известно, что она может говорить все, что вздумается. – Вот и чего вы ждали? Думали, само все пройдет?
Она права. К тому же последние пару дней он урывками спал на задворках, подстелив картонку и накрывшись украденным пиджаком, потому что возвращаться к своей палатке было чревато: там могли поджидать Клейтон с дружками, вооруженные обрезками труб и молотками.
Блестящие серебряные ножнички, тихо щелкая, разрезают тряпичную перевязь. На распухшей ноге от нее остались белые полосы, и так она похожа на вязанку ветчины. Ну и кто тут свинка?
«Вот же зараза, – горько думает Харпер. – Прошел всю войну без серьезных травм, а грохнулся в нору какого-то бомжа – и сразу калека».
Дверь распахивается, и в кабинете появляется доктор. Немолодой, с брюшком и убранными за уши густыми седыми волосами, похожими на львиную гриву.
– Ну-с, на что жалуетесь, сэр? – Он улыбается, но снисходительный тон все портит.
– Уж точно не на то, что всю ночь танцевал, обмазавшись краской.
– Да вам и не придется, судя по всему, – замечает доктор, все еще улыбаясь, и поворачивает опухшую ступню, обхватив ее обеими руками. А потом ловко, даже профессионально, уворачивается от взвывшего Харпера, который замахнулся на него кулаком. – Ну-ну, помашите мне тут, голубчик, и вас взашей выгонят, – усмехается доктор. – Никакие деньги вам не помогут.
Он снова сгибает его ступню, двигая ее вверх и вниз, но теперь Харпер стискивает зубы и сжимает кулаки, стараясь держать себя в узде.
– Пальцами пошевелить сможете? – спрашивает доктор, внимательно изучая его ногу. – Чудесно, чудесно. Это хорошо. Лучше, чем я думал. Замечательно. Вот, смотрите, – обращается он к сестре, зажимая дряблую кожу над пяткой. – Здесь должны быть сухожилия.
– Да, действительно, – медсестра тоже ощупывает пятку. – Вы правы.
– И что это значит? – спрашивает Харпер.
– Да то, что ближайшие пару месяцев вам стоит побыть в больнице, голубчик, но что-то мне подсказывает, что для вас это не вариант.
– У меня нет на это денег.
– И озабоченных воздыхателей, готовых раскошелиться на ваше здоровье, как у нашей светящейся девушки. – Доктор подмигивает. – Можем наложить вам гипс, вручить костыль и отправить восвояси. Но разрыв сухожилий так просто не вылечить. Нужно месяца полтора постельного режима, не меньше. Могу посоветовать одного башмачника, он специализируется на ортопедической обуви. Сделает вам что-нибудь на каблуке – это поможет.
– Я не могу просто лежать. Мне нужно работать. – В голос прокрадываются жалобные нотки, за которые Харпер на себя злится.
– Сейчас у всех проблемы с деньгами, мистер Харпер. Спросите в администрации, если не верите. Так что советую что-нибудь придумать. – Задумавшись, он прибавляет: – Сифилиса-то у вас нет небось?
– Нет.
– А жаль. В Алабаме как раз начали его исследовать, заплатили бы вам за лечение. Правда, у них программа только для негров.
– Я не негр.
– Не повезло, – пожимает плечами доктор.
– Я смогу ходить?
– О, разумеется, – говорит доктор. – Но на роль в спектакле у мистера Гершвина рассчитывать вам уже точно не придется.
Из больницы Харпер выходит, прихрамывая, с перевязанными ребрами, гипсом и ударной дозой морфина в крови. Первым делом он лезет в карман: проверить, сколько осталось денег. Два доллара с мелочью. Но затем пальцы проходятся по зазубренному краю ключа, и что-то в голове проясняется, щелкает, как приемник. Может, все дело в морфине. Может, просто настал подходящий момент.
Раньше он ни разу не замечал, как гудят уличные фонари: низко и глухо, вибрацией отдаваясь в ушах. До вечера еще далеко, и огни не горят, но Харперу все равно кажется, что они вспыхивают, когда он подходит ближе. Гул отдаляется, останавливается у фонаря чуть подальше, словно зовет за собой. «Сюда». Харпер готов поклясться: он слышит потрескивающую музыку и чей-то далекий голос, искаженный, словно плохо настроенное радио. Фонари гудят, и он следует за их гулом, пытаясь справиться с неповоротливым костылем.
Стейт-стрит приводит его к деловому центру Вест-Луп и плавно перетекает в Мэдисон-стрит, по обеим сторонам которой возвышаются сорокаэтажные небоскребы, делая ее похожей на каньон. Оттуда он сворачивает в Скид-Роу, где за два доллара можно снять койку на несколько дней. Но гул фонарей ведет его дальше, к Блэк Белт. Здесь полно сомнительных баров, откуда играет джаз, да захудалых кафешек, которые быстро сменяются нагромождением дешевых домов. На улице перед ними играют тощие дети в обносках, а на ступенях сидят старики с самокрутками, которые провожают его взглядами пристальных глаз.
Постепенно улица становится у́же, а дома начинают налезать друг на друга сильнее, отбрасывая на тротуар прохладную тень. Откуда-то из квартиры сверху доносится женский смех, резкий и неприятный. Повсюду, куда ни посмотри, Харпер замечает следы разрухи. Битые стекла в домах, написанные от руки вывески на витринах пустых магазинов: «Мы закрыты», «Закрыто на неопределенный срок», а один раз и вовсе одно лишь «Простите».
О проекте
О подписке
Другие проекты