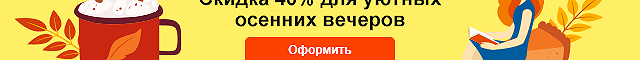
Глава III
Понедельник. Вечер. В старшем, выпускном классе идет усиленная зубрежка. В последнем классе института множество новых забот. Выпускное отделение – это преддверие к жизни. На выпускных институток смотрят уже как на взрослых девушек. И немудрено: через какие-нибудь семь месяцев они, эти юные девушки, сейчас еще усердно погруженные в историю литературы, катехизис, физику, отечествоведение, геометрию, историю и прочее и прочее, выпорхнут на свободу.
И все-таки некоторые «синявки», классные дамы, не хотят считаться с «взрослыми» барышнями и продолжают считать их детьми.
Так, по крайней мере, поступает «Скифка», или Августа Христиановна Брунс, немецкая дама.
Лет пятнадцать тому назад приехала она из далекой своей Саксонии в богатую Россию, приехала уже девицей в летах, отчаявшейся выйти замуж, приехала единственно ради заработка и в надежде добиться спокойного угла под старость. Детей она никогда не любила, почти никогда не видела их вблизи, но зато как «Отче наш» твердо запомнила те несложные требования, которые предъявлял институт к своим классным дамам-педагогичкам: следить за девочками денно и нощно, всячески подавлять в них проявления воли, сделать из них вполне благовоспитанных барышень, покорных и безответных, как стадо овец, а для этого – муштровать, муштровать и муштровать их, как только возможно, с утра до ночи и с ночи до утра…
– Балкашина! – Скифка неожиданно вскрикивает и стучит по кафедре ключом от своей комнаты, с которым она не расстается, пока дежурит в классе. – Балкашина, ты, кажется, читаешь, вместо приготовления уроков? Was liest du da? Komm her![1]
На ближайшей скамейке – девушка лет семнадцати, миниатюрная, худенькая, с прозрачно-бледным лицом. Подруги называют ее «Валерьянкой»: отчасти потому что настоящее ее имя Валерия, отчасти – потому что у Вали есть несчастная слабость беспрестанно лечить себя и других.
Балкашина действительно помешана на лечении. Она уничтожает неимоверное количество валерьяновых, ландышевых и флердоранжевых[2] капель, нюхает соли и спирт, которые всегда носит при себе в граненых флакончиках, глотает магнезию для урегулирования желудка и жует отвратительные леденцы «гумми» от кашля. Она постоянно кутается, боится холода, сквозняков – в общем, мнительна до крайней степени.
Сейчас, при оклике Скифки, сконфуженная Валерьянка поднимается со своего места; ее бледное лицо заливается румянцем.
– Was liest du? – снова звучит неумолимый голос классной дамы.
– Книгу, фрейлейн, – слышится робкий ответ.
– Das ist keine Antwort![3] – бубнит с кафедры Скифка.
Ах, бедная Валерьянка и сама понимает, что это не ответ. Но слово сорвалось нечаянно, против воли. Она молчит.
Лицо Скифки багровеет.
– Баян! – кричит она, снова по привычке стуча ключом о доску кафедры и вонзая взоры своих узеньких, как щелочки, но всевидящих глаз в хорошенькую, кудрявую, поэтично растрепанную головку девчурки лет шестнадцати, которой по наружности с успехом можно дать не больше тринадцати, – Баян, посмотри, какую книгу читала твоя соседка. Und sage mir sofort![4]
Ника Баян – самая отъявленная шалунья и общая любимица не только класса, но и всего института; ее поклонницам нет числа. Помимо обворожительного точеного личика с самым жизнерадостным выражением, так и брызжущим из ее карих глаз, помимо заразительного смеха, звенящего как колокольчик, Ника обладает способностью и мертвых поднять из гроба своей веселостью, рассмешить самых уравновешенных своими шутками, проказами, своим неистощимым запасом тонкого остроумия. Учится она неровно: то из рук вон плохо, то обгоняет лучших учениц. Есть у нее еще одна удивительная способность, восхищающая весь институт. Прозвища у Ники нет; все зовут ее по имени. Зато классные дамы, которым Ника немало насолила за семь лет своего пребывания в институте, сами прозвали девушку «Буянкой», переиначив ее поэтичную, отдающую древней русской сказочной стариной фамилию.
Вот она встает, как будто полная готовности услужить Скифке. Встает с внезапно зажегшейся яркой улыбкой и быстро бросает взгляд на лежащую перед ее соседкой по парте, Балкашиной, книгу. И тотчас веселая улыбка сменяется плутоватой, а карие глазки, полные веселья, прячутся под сенью черных ресниц.
– О! – громко шепчет Ника. – О! Я не могу сказать, что это за книга, фрейлейн Брунс… Это… Это… Неприличная книга… Очень неприличная…
Класс фыркает. Институтки в восторге, предвкушая новую затею Ники.
– Что?
Жгучее любопытство и торжество отражаются на лице Скифки. Ее голос дрожит от нетерпения:
– Wie so?[5] Неприличная? Но как же она смеет…
Теперь ее взгляд буквально простреливает насквозь бедную Валерьянку, режет ее без ножа; глаза прыгают; ключ барабанит по кафедре.
– Почему неприличная? – взывает Скифка, повышая голос.
– Но… Но… Там… Там изображен совсем раздетый человек… И даже без мяса, – дрожа от смеха, лепечет Ника.
– Без мяса? О, это уж слишком!
Скифка бурей срывается со своего места и несется к злополучной парте.
На парте перед Валерьянкой лежит книга; на раскрытой странице изображен человек, вернее, скелет. Действительно, «человек без мяса», как говорила Ника; но книга не неприличная, а медицинская – краткий курс анатомии, только и всего.
Скифка смущается на мгновение. Потом – уже по адресу Вали – стучит о парту неумолимым ключом.
– Как ты смеешь читать такие книги! – сердито выговаривает Скифка.
Балкашина делает гримасу и подносит бескровные руки к вискам.
– У меня болел бок… – говорит она с вымученной улыбкой.
– Но ты держишься за голову.
– Теперь заболела голова…
– Это не относится к неприличной книге…
Валя опускает руку в карман, вынимает оттуда пузырек с английской солью и нюхает его с видом мученицы.
– У меня болел бок, – подтверждает она упрямо, в то время как несколько десятков воспитанниц сдержанно фыркают в платки, – и я хотела справиться в анатомическом атласе, которое ребро у меня болит. Я взяла с этой целью медицинскую книгу; в ней нет ничего неприличного… Мы по ней проходили строение человеческого тела, анатомию… Ах, Боже мой, вы напрасно только меня расстроили. Я должна опять принимать капли. Мои нервы расстроены, я больше не могу…
Глаза Валерьянки мгновенно наполняются слезами, и с видом оскорбленной невинности она ныряет головой под крышку пюпитра. Там скрипит пробка в пузырьке, булькает вода, всегда имеющаяся наготове в классном ящике Вали. Она отсчитывает с сосредоточенным видом капли в рюмку, и через минуту резкий, противный запах валерьяновых капель разносится по всему классу.
– Mesdames[6], Валерьянка снова наглоталась валерьянки, – сдерживая смех, шепчутся воспитанницы.
В это время на пюпитр Ники Баян падает бумажка, свернутая корабликом.
В записке всего одна строчка, набросанная корявыми буквами вкривь и вкось: «Пойдем в клуб сухари жарить».
Ника быстро оборачивается.
На задней парте сидят четверо. С краю – черноглазая, пылкая и несдержанная армянка Тамара Тер-Дуярова, впрочем, более известная под фамилией «Шарадзе», данной ей институтками за ее непреодолимую слабость к шарадам и загадкам. Настоящее дитя Востока, не в меру наивная, не в меру ленивая, но вспыльчивая особа лет восемнадцати, с некрасивым длинноносым профилем, похожим на клюв хищной птицы, но с прекрасными пламенными глазами, она имеет огромное достоинство: удивительное рыцарское благородство и непогрешимость в делах чести, за которые ее любит весь класс. Тамара никогда никому еще не солгала.
Подле нее сидит высокая белокурая «невеста Надсона», семнадцатилетняя Наташа Браун, обожающая талантливого поэта, при всяком удобном и неудобном случае цитирующая на память его стихи, которые она знает все до единого. В пюпитре у нее имеется копилка с ключом; в копилке – медные деньги. Наташа давно их собирает – на памятник поэту, который мечтает выстроить у себя в имении. На руке ее выколоты булавками и затерты черным порошком заветные инициалы «С. Н.» (Семен Надсон). На груди она носит медальон с портретом поэта. Кроме того, целая коллекция портретов Надсона у нее в классном ящике и в ночном шкафчике в дортуаре.
Рядом с Браун сидит «донна Севилья», или «мнимая испанка». Когда Ольге Галкиной было тринадцать лет, родители взяли девочку в Испанию: отцу Ольги было дано какое-то дипломатическое поручение в русское консульство. Галкины прожили в Севилье всего три дня, но Ольга с тех пор не перестает бредить севильскими башнями, свидетельницами далеких веков, дивной, полной блеска природой, боем быков и испанскими серенадами. Белобрысая, некрасивая, светлоглазая, с маленьким ртом, Ольга скорее похожа на финку, нежели на испанку, и прозвище, данное ей подругами, менее всего ей подходит.
С «мнимой испанкой» соседствует «Хризантема». Это высокая русоволосая девушка с осиной талией, обожающая цветы, преимущественно хризантемы и розы. Она засушивает их в книгах, зарисовывает в альбомы, всегда держит один цветок хризантемы в пюпитре, другой – на ночном столике в дортуаре. Все свои карманные деньги Муся Сокольская тратит на цветы.
Все четверо кивают Нике. Это значит, что записка прилетела от них.
Ника быстро вынимает из кармана носовой платок, прикладывает его к губам и, делая страдальческое лицо, подходит к кафедре.
– Фрейлейн Брунс, меня тошнит… Позвольте мне выйти из класса.
– Spreсhen deutsch![7] – сердито роняет Скифка, строго и подозрительно глядя на шалунью.
Ника Баян с покорным видом невинной жертвы переводит фразу на немецкий язык.
– Gehen sie, aber kommen sie schnell zurück[8], – милостиво разрешает Августа Христиановна.
Ника тенью скользит из класса. У дверей она приостанавливается и, повернувшись спиной к классной даме, делает «умное» лицо по адресу класса. Мимика девушки богата, комический талант Ники известен всему классу. И весь класс, глядя на «умное» Никино лицо, дружно, неудержимо прыскает со смеху.
– Баян! – строго окликает девушку Скифка. – Опять клоунство, шутовство! Здесь не цирк и не балаган!
Ключ стучит по доске кафедры, лицо немки, обычно густо-розового цвета, теперь красно, как пион.
Но Ника ее не слышит. Она уже в коридоре… На лестнице… Быстро пробегает по частым ступенькам и птицей взлетает на третий этаж. Вот и дверь «клуба» – комнаты, имеющей исключительное назначение и отнюдь не похожей на клуб. Единственная лампочка светит тускло. В углу ярко пылает печь. Ника быстро распахивает ее железную дверцу и несколько минут, присев на корточки, смотрит на огонь. Потом вынимает из кармана тонкие ломтики черного хлеба, густо посыпанные солью, и осторожно кладет их на «пороге» печной дверцы.
Черные, собственноручно подсушенные сухари – любимое лакомство институток. Его приготовление жестоко преследуется начальством, но запретный плод особенно вкусен, и никакие наказания не могут отучить девочек от соблазнительного занятия.
Ника так увлеклась своим делом, что не заметила, как с имеющегося в «клубе» окна, с его широкого подоконника, соскакивают две девушки. Одна из них довольно полная, с матовым цветом лица, задумчивыми черными глазами и пышными черными волосами. Другая повыше; она тонка и стройна; своеобразно и энергично ее смуглое личико, похожее на лицо цыганенка. Курчавая шапка коротких волос дополняет сходство с мальчиком-цыганом, равно как и большие черные глаза с гордым, смелым выражением, строгие брови, почти сросшиеся на переносице, и шаловливая усмешка неправильного, по-детски капризного ротика.
Не замеченные Никой, обе девушки тихонько подкрадываются к ней сзади, и тонкие руки «мальчугана» ладошками крепко закрывают ей глаза.
– Ага! Попалась! Будешь сухари в печке сушить! – деланым басом говорит «цыганенок», в то время как ее подруга, оставаясь в стороне, беззвучно смеется.
– Ах! – скорее изумленная, нежели испуганная, со смехом роняет Ника.
– Берегись, о несчастная! Горе тебе! Ты заслуживаешь жесточайшей кары! – басит над ней смуглянка.
– Ха-ха-ха! Угадала! Угадала! Это Алеко! Алеко! – Ника вдруг разражается громким хохотом и бьет в ладоши.
Смуглые руки вмиг отпускают ее глаза.
«Алеко» и есть. «Земфира» и «Алеко». Двое героев Пушкинской поэмы «Цыганы» – Мари Веселовская, с ее глазами и лицом цыганки, и Шура Чернова – как два попугайчика из породы «inséparables»[9], дружат еще с младших классов и не расстаются ни на минуту. Хотя Алеко, герой «Цыган» Пушкина, и не цыган вовсе, а русский, попавший в табор, но тем не менее Шуру Чернову, похожую на мальчика-цыганенка, прозвали этим именем, а Мари Веселовскую – «Земфирой». Они вместе готовят уроки, вдвоем гуляют в часы рекреации[10], вместе читают книги. Их парты рядом. Они соседки и по столовой, и по классу, и по дортуару. Они обе ревнивы, как истинные дети юга. И ни та, ни другая не смеет дружить с остальными одноклассницами.
Сейчас обе они пробрались в «клуб», чтобы прочесть новую интересную книгу.
– Ага, цыгане, вот они чем занимаются! Как вам удалось вырваться из класса? – улыбаясь всеми ямочками своего розового лица, спрашивает Ника. Жар печки горячим румянцем обжег ее щеки, плутоватые карие глазки засверкали шаловливыми искорками.
– А вот… – начала было своим низким грудным голосом Земфира, но в тот же миг умолкла.
Внезапно «клуб» наполнился шумом, смехом и суетой. Как вихрь ворвались под его гостеприимную сень пять новых проказниц – неуклюжая, крупная Шарадзе, за ней высокая и изящная «невеста Надсона», гибкая, тоненькая и нежная, сама похожая на цветок Хризантема, донна Севилья, с ее восторженным лицом и рассеянно блуждающими белесоватыми глазами, и подруга Муси Сокольской, «Золотая рыбка», или Лида Тольская, маленькая шатенка с веселыми прозрачными серыми глазами и хрустальным голоском.
Если слабость Муси Сокольской – цветы, особенно хризантемы, то у Лиды Тольской другое пристрастие: она обожает рыб. Как дома, так и здесь, в институте, в ночном шкафчике в дортуаре, у нее имеется крошечный аквариум, который она получила от своего брата в день ее рождения. С аквариумом много возни: надо каждый день менять воду, чистить его, кормить живущих в нем четырех золотых рыбок и двух тритонов. Надо скрывать существование аквариума от Скифки и другой, французской, классной дамы, от инспектрисы и прочего начальства. Делу содержания аквариума Лида Тольская предается с восторгом. Золотые рыбки и тритоны – это ее сокровище, ее богатство. И сама она похожа на рыбку – с ее холодными глазами, спокойными движениями и тоненьким голоском. «Золотой рыбкой» и прозвали ее подруги.
– Сухари! Сухари! Душки сухари! Прелесть сухарь! – запела армянка, подскакивая к печи и выхватывая оттуда горячий, обгорелый чуть не до степени угля кусочек хлеба, и тут же отдернула руку.
– Ай, жжется! – взвизгнула она на весь «клуб» и закружилась по комнате, дуя себе на пальцы.
– Как вы удрали от Скифки? Вот молодцы! – весело воскликнула Ника.
– Меня затошнило, как и тебя, – смеясь, говорит донна Севилья, – им (она мотнула головой на Хризантему и Золотую рыбку), как водится, захотелось пить; у нашей Шарадзе спустился чулок, потому что лопнула подвязка, – как видишь, все причины уважительные, не правда ли?
– А невеста Надсона как?
– А невесту Надсона увлек призрак жениха, – засмеялась Шарадзе, – и она, проходя мимо Скифки, тоже стала невидимой, как призрак или мечта.
– Глупые шутки, – презрительно произнесла белокурая Наташа и продекламировала вполголоса:
Я не Тому молюсь, Кого едва дерзает
Назвать душа моя, смущаясь и дивясь,
И перед Кем мой ум бессильно замолкает[11].
– А разве у тебя есть ум? А я и не знала, – невинно роняет подоспевшая Тамара Тер-Дуярова.
– Шарадзе, не воображаете ли вы, что вы у́мны? – вступается Золотая рыбка.
– А то глупа? Кто умнее – ты или я? Это еще вопрос, – неожиданно вспыхивает Шарадзе. – Кабы умна была, шарады да загадки решала бы, а то самой пустячной из них, душа моя, не умеешь решить, несмотря на все старания.
– Задай, мы все решим сообща, – примиряющим тоном предлагает Ника.
– То-то, решим… – ворчит Шарадзе, забавно двигая длинным носом. – Вот тебе, решай, коли так: «Утром ходит в лаптях, в полдень в туфлях, вечером в башмаках, а ночью в облаках». – Что это?
Общее молчание на миг водворяется в «клубе».
– Что это? – возвысив голос, повторяет Шарадзе и обводит подруг торжествующим взором.
Те молчат. Донна Севилья копошится у печки, аккуратно раскладывая у самой дверцы свои и чужие ломтики черного хлеба, предназначенные на сухари. У остальных озадаченные, напряженные лица.
– Не знаете? Не угадываете? Ага! Я так и знала, – торжествует Шарадзе и быстро поворачивается к Нике: – Ты, душа моя, самая умная, и не можешь решить?
– Благодарю за лестное мнение, синьорина, – отвечает Ника, отвешивая насмешливый поклон и делая «умное лицо», глядя на которое все присутствующие неудержимо хохочут.
– Ага! – торжествует Шарадзе. – Значит, не доросли. Это, душа моя, не шутка – загадку решить.
– Ну, да ладно уж, ладно, не ломайся, говори, что это, – нетерпеливо требует Алеко.
Шарадзе еще молчит с минуту. Новый торжествующий, полный значения взгляд – и она неожиданно выпаливает с апломбом:
– Это – месяц. Месяц небесный, душа моя, только и всего.
Эффект получается неожиданный. Даже все подмечающая Ника и насмешница Алеко Чернова забывают напомнить Тамаре о том, что земного месяца до сей поры еще не видали, – и они поражены, как и остальные, неистощимой фантазией Шарадзе. Наконец, Хризантема первая обретает способность говорить:
– Месяц? Как странно! Но послушай, Шарадзе, как же в лаптях и башмаках? Месяц – и в лаптях… Странно что-то.
– А по-твоему, душа моя, он должен босиком ходить, что ли? – набрасывается на нее армянка.
– Я… Я не знаю… – роняет смущенная Муся.
– И я не знаю, душа моя. В том-то и дело, что ни я, ни ты, и никто, душа моя, не знает, как он ходит: в лаптях, босой или в башмаках; а знали бы, так никакой загадки и не было бы, – с тем же победоносным видом заключает Тамара.
Ника Баян при этом неожиданном выводе разражается неудержимым смехом. Хохочут и все остальные.
– Нет, она обворожительно наивна, наша Тамарочка, – шепчет Алеко, покатываясь на весь «клуб».
– Ха-ха-ха! – звенит своим хрустальным голоском Золотая рыбка.
Даже бледная, всегда задумчивая невеста Надсона не может удержаться от улыбки. Неудержимое веселье охватывает всех находящихся в «клубе» девушек.
– Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! – то и дело вспыхивает здесь и там.
В самый разгар веселья на пороге вырастает угловатая, нескладная фигура первоклассницы[12] Зины Алферовой. Зину называют «Дорогая моя» за ее постоянную привычку прибавлять эти два слова чуть ли не к каждой фразе, кстати и некстати.
– Mesdam’очки, тише, дорогие мои, тише, – лепечет Зина с перекошенным от страха лицом. – Дорогие мои… На черной лестнице лежит кто-то… Лежит и рыдает… наткнулась… Ах, Господи, дорогие мои, это так страшно, страшно…
И руки Зины поднимаются к бледному лицу, и сама она, прислонившись к дверному косяку, готовится заплакать горькими слезами.
О проекте
О подписке