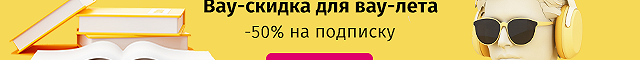
Глава 3
Я никогда не бывала внутри дома мэра, что даже как-то странно: ведь он-то бывал во мне много-много раз.
Мой взгляд скользит повсюду: от изящных фарфоровых ваз с засохшими цветами до люстры из граненого стекла. В гостиной висит огромная картина, изображающая Антонио с семьей. Картину явно заказывали несколько лет назад: дети с тех пор уже успели подрасти.
Прямо под картиной, держа на коленях косу, сидит всадник.
У меня перехватывает дыхание. Меня вновь, как в первый раз, поражает его внешность: волнистые волосы, сверкающие зеленые глаза. Он весь словно высечен из камня: далекий, недосягаемый.
Я пытаюсь как-то примирить это впечатление с самым первым воспоминанием о нем.
Шея – кровавое месиво с торчащими сухожилиями. Лицо и голова в грязи и крови, волосы прилипли к щекам…
– Так, что это у нас тут?
Голос у него как медовое вино, и это возвращает меня в реальность.
Я смотрю, смотрю, смотрю, не отрываясь. Мой острый как бритва язык отказывается мне служить.
Пока мы с Элоа молчим, взгляд Голода буравит меня насквозь. Дойдя до глаз, он останавливается ненадолго, но видно, что всадник меня не узнает.
Не узнает.
Вся вина, весь стыд, все то, что я держала в себе годами… а он меня даже не вспомнил.
Я стараюсь не выдать горького разочарования. За пять лет работы на Элоа я ни разу не упомянула, что уже встречалась со Жнецом. Я согласилась на этот ее нелепый план только потому, что у меня с этим всадником осталось кое-что незаконченное.
К сожалению, финал зависит от того, вспомнит ли меня всадник.
Элоа делает шаг вперед.
– Я пришла к тебе с подарком, – вкрадчиво произносит мадам.
Всадник смотрит куда-то между нами, на лице у него выражение скуки.
– И где же он? У тебя в руках ничего нет.
Элоа смотрит на меня – знак, что я должна что-то сказать. Обычно я достаточно уверена в себе, а когда смелости недостает, выезжаю на притворстве. Но сейчас мне хочется только одного: провалиться сквозь землю.
Ты меня не помнишь? – едва не вырывается у меня.
Мы с ним – словно неоконченный разговор, висящий в воздухе.
– Подарок – это я, – говорю я вместо этого, возвращаясь к плану Б.
– Ты? – Он приподнимает брови, кривя рот в насмешливой улыбке. Его взгляд снова скользит по мне. – И что же мне прикажешь с тобой делать?
– Может быть, я сумею отогреть твое ледяное сердце.
Ну вот, острый язык все-таки дал о себе знать.
Теперь Жнец, кажется, почти заинтригован. Он берет косу в руку и встает.
Голод подходит ко мне. Каблуки его сапог щелкают по полу.
– Что там хоть под этой краской? – говорит он, подойдя вплотную. – Корова? Свинья?
Щеки у меня вспыхивают. Давно уже меня не бросало в жар от унижения. Только теперь я замечаю, сколько людей в этой комнате: не только Голод и Элоа, но еще и полдюжины стражников, – и все они это наблюдают.
Всадник усмехается.
– Думала, мне нужно твое тело? Да?
Голос у него жестокий.
Да. Именно так.
– Жалкое создание, – продолжает Голод, пристально разглядывая меня. – Ты что, ничего не слышала обо мне? Мне ни к чему твоя гнилая плоть. – Сверкнув глазами, он переводит взгляд с меня на Элоа. – Для вас обеих было бы лучше, если бы вы не пытались привлечь мое внимание.
Я чувствую перемену атмосферы в комнате и вспоминаю, как уволокли за дом семью мэра меньше часа назад. И теперь я вдруг с тревогой замечаю: подношения-то все здесь, сложены в ряд у ближайшей стены, а вот людей, которые их принесли, нигде не видно.
Мы ступили в опасные воды.
Стоящая рядом Элоа сохраняет невозмутимый вид.
– Ты когда-нибудь спал со смертной? – спрашивает она. Эта женщина ни в каких обстоятельствах не теряет деловой хватки.
Голод переводит взгляд на нее и лукаво улыбается – так, словно впервые за этот день что-то доставило ему удовольствие. Однако глаза у него холодные – таких холодных глаз я еще никогда не видела. Похоже, секс – последнее, что его занимает.
– А если и нет, так что? Ты что же, всерьез думаешь, что если я вдуну этому мешку плоти разок-другой, это что-то изменит?
Я поднимаю брови. Я привыкла к вульгарным, унизительным репликам. Но не привыкла к… Не знаю даже, как назвать такое оскорбление.
Мешок плоти? Уж лучше бы сучкой назвал. Я же знаю, что хороша собой.
– Видно, что ты никогда не пробовал ни одну из моих женщин, – говорит Элоа, продолжая цепляться за свой абсурдный план.
– Твоих женщин?
Голод вновь переводит взгляд на меня. Стиснув зубы, я выдерживаю его взгляд.
Узнает ли он меня? Знает ли?..
Его пугающие зеленые глаза внимательно разглядывают меня, пронзая насквозь. В них не мелькает ни искры узнавания. Если он и помнит меня, то никак этого не показывает.
– Как это, должно быть, ужасно, – говорит Голод, – когда тобой владеют и пользуются как собственностью.
Я открываю рот, чтобы сказать ему, что он ошибается, послать его подальше, сказать, что если бы я только могла остаться с ним наедине на минутку, то могла бы пробудить его память. Может, тогда мы сможем закончить это старое дело между нами. И ненависть, и надежды, связанные с ним, живут во мне уже очень давно.
На какой-то миг всадник колеблется. Кажется, он почти уловил что-то. Но затем его лицо становится жестким.
Глаза Голода устремляются куда-то поверх наших голов. Он свистит и делает жест людям, стоящим поблизости.
– Избавьтесь от них так же, как от остальных.
Мы совершили ошибку.
Это становится ясно, когда люди Голода грубо хватают нас с Элоа и тащат прочь.
– Уберите от меня руки! – приказывает моя мадам.
Мужчины оставляют ее слова без внимания.
Я тоже пытаюсь вырваться из их рук. Я смотрю только на всадника, а тот усаживается обратно в плюшевое кресло, в котором сидел, когда мы вошли, и снова кладет косу на колени.
– Ты меня не помнишь? – вырывается наконец у меня.
Однако Голод уже не обращает внимания на нас – посрамленную шлюшку и ее отчаявшуюся мадам. Его взгляд устремлен на входную дверь, в которую вот-вот войдет следующий проситель.
– Это же я тебя спасла! – кричу я ему, когда меня уже утаскивают прочь. Мужчины волокут нас с Элоа к двери, ведущей в заднюю часть особняка мэра.
Голод не удостаивает меня взглядом. Я-то думала, стоит мне только заговорить об этом, и он меня выслушает. Я никак не ожидала, что он не только не узнает меня, но даже и слушать не станет.
Давняя обида и возмущение вскипают во мне. Да если бы не я, никого из нас сейчас бы здесь не было!
– Никто тебе больше не помог! – выкрикиваю я и слегка запинаюсь о порог, когда один из его стражников выволакивает меня за дверь. – Никто, кроме меня. Тебя ранили, и…
Дверь захлопывается.
Я… я упустила свой шанс.
Все еще глядя на дверь, я слышу, как ахает Элоа. А затем…
– Твою ж бога мать… – Голос у нее резкий, пронзительно высокий.
Я отрываю взгляд от двери и поворачиваюсь туда, где… Матерь божья!
Перед нами огромная яма с крутыми гладкими глиняными стенками. Как-то, много месяцев назад, Антонио упоминал, что собирается строить бассейн для своих дочерей. Я запомнила этот разговор только потому, что уход за бассейном показался мне чудовищно утомительным делом.
Ох уж эти богачи со своими игрушками.
А теперь… теперь я смотрю на этот недостроенный бассейн. Только вокруг повсюду брызги крови: и на каменной кладке, и в самой глиняной яме, внутри…
Поначалу мои глаза отказываются воспринимать то, что видят перед собой. Неестественно изогнутые руки и ноги, окровавленные тела, остекленевшие глаза… В яме лежит более дюжины человек.
Боже милостивый! Нет, пожалуйста, нет!
К горлу подкатывает тошнота, и я начинаю вырываться изо всех сил.
Не для того я столько времени обманывала смерть, чтобы все закончилось вот так.
Элоа кидается на стражников, словно дикая кошка, осыпая их бранью.
Один из стражников выпускает ее, и на мгновение мне кажется, что ей вот-вот удастся освободиться. Но тут мужчина вытягивает из висящих на бедре ножен кинжал.
– Пожалуйста! – уже плачет Элоа. – Я сделаю все что уго…
Он пронзает ее насквозь – раз, другой, третий, прежде чем она успевает закончить свою мольбу о сохранении жизни. Кровь хлещет, я кричу и пытаюсь вырваться из рук держащих меня мужчин, чувствуя себя рыбой на крючке.
Они убивают ее. Прямо у меня на глазах. Я все кричу и кричу, глядя, как Элоа истекает кровью.
Тут-то в меня и входит первый нож – в тот самый миг, когда я смотрю, как умирает моя подруга. На мгновение мои крики прерываются: удар застает меня врасплох. А стражники раз за разом вонзают ножи теперь уже в мое тело.
Я уже не могу дышать от боли. Ноги подгибаются, по телу стекают теплые струйки.
Черт, больно! Такого я еще никогда не испытывала. Я хочу закричать, но от нестерпимой боли перехватывает горло.
Я обвисаю в руках стражников. Они хватают меня за ноги и отрывают от земли. Все кружится перед глазами, и мне наконец удается издать мучительный стон, а мое тело уже раскачивается в воздухе – взад-вперед, взад-вперед.
– Раз… два… три!
Мужчины отпускают меня, и на секунду я оказываюсь в невесомости.
А потом ударяюсь о дно ямы.
Кажется, я теряю сознание от боли, хотя с уверенностью сказать трудно. Меня затягивает в воронку агонии и бреда. Сил не хватает на то, чтобы сосредоточиться на чем-то еще, иначе я, наверное, заметила бы цвет неба над головой или силуэты мертвецов вокруг. Может быть, даже попыталась бы подвести итоги своей короткой несчастливой жизни или надеялась бы наконец-то снова увидеть родных.
Но все мысли вытесняет боль, и я не замечаю ничего, кроме того, как мне холодно и как трудно дышать.
Сознание у меня мутится, глаза закрываются.
Это конец.
Я чувствую, как смерть вползает в мои кости. В такие моменты люди обычно собираются с силами и борются за жизнь.
А я нет.
Я сдаюсь.
Глава 4
Мне снова снится все тот же повторяющийся сон: Голод идет по полю сахарного тростника. Его рука лениво висит вдоль тела, кончики пальцев касаются стеблей. Под его прикосновением они тут же съеживаются и чернеют. Тлен распространяется вокруг него, пока не засыхает все поле.
Жуткая тишина. Я даже не слышу, как свистит ветер в этих умирающих стеблях, хотя они колышутся от какого-то призрачного дуновения.
Я снова там: стою, как на часах, пока Жнец идет по полю, уничтожая урожай на своем пути. Где-то позади меня маячит темная фигура, но я не оглядываюсь.
Я смотрю, а Голод уходит все дальше, и тишина словно смыкается вокруг меня.
Сильная рука хватает меня сзади за плечо и крепко сжимает его.
Губы прижимаются к моему уху.
– Живи, – выдыхает голос.
И тогда я просыпаюсь.
Открываю глаза, щурюсь от невыносимого блеска солнца, и в ноздри ударяет резкий запах тлена.
Вся словно в тумане от боли и слабости, я делаю один прерывистый вдох, затем другой.
Пробую слегка шевельнуться. При этом движении тело пронзает резкая, разрывающая боль.
Ох, мать твою…
Я замираю в ожидании, когда боль утихнет. Она ослабевает… точнее, притупляется, переходит в равномерную пульсацию. Я делаю неглубокий вдох, втягивая в себя при этом комочки земли. Закашливаюсь и – дьявол меня возьми! – чувствую, что прохожу сквозь врата ада. Боль возвращается с новой силой.
Черт, как больно!
По телу скользит грязь, осыпается с меня, когда я приподнимаюсь на локтях. Рука касается чего-то мягкого: явно не грязи. Потом в тот же предмет упирается моя нога.
Скрежеща зубами от боли, я заставляю себя сесть. Вскрикиваю: тело болит в самых разных местах.
Сдерживай рвоту. Сдерживай рвоту!
Когда боль и тошнота проходят, я оглядываюсь вокруг. Сквозь туман в мозгу до меня доходит, что я сижу в недостроенном бассейне и что его уже засыпали землей. Но мое внимание привлекает не это.
Чуть дальше чем в метре от меня я вижу лицо, проглядывающее сквозь слой земли, словно только что пробившийся росток: рот приоткрыт, распахнутые глаза, безучастно смотрящие вдаль, припорошены почвой.
Мой взгляд блуждает вокруг, и у меня вырывается вскрик. Слева от меня из земли торчит нога и часть чьего-то туловища, справа – плечо и рука от другого тела.
Под рукой у меня что-то бугристое и довольно твердое. Я перевожу взгляд туда и тут же понимаю, что все это время опиралась на лицо жены мэра и два моих пальца уткнулись в ее зубы.
Крик вырывается у меня из груди, переходя в захлебывающиеся рыдания.
Боже правый!
Я отдергиваю руку, и дюжина мух взлетает, а потом вновь облепляет мертвое лицо.
Дочери этой женщины лежат рядом. Все они коекак присыпаны землей.
Их похоронили в едва зарытой могиле. Бросили умирать.
И меня вместе с ними.
Элоа…
Мой взгляд мечется по сторонам, отчаянно пытаясь отыскать женщину, которая приютила меня пять лет назад.
Я не вижу ее, но чем дольше осматриваюсь, тем отчетливее понимаю, что яма шевелится. Тут есть те, кто выжил в этом кошмаре, те, кто, как я, оказался погребен заживо.
И теперь, прислушавшись, я слышу их тихие предсмертные стоны. Это те из нас, кто еще жив, хотя, вероятно, ненадолго.
Мой разум яростно восстает против этой мысли.
Я хочу жить.
Я буду жить.
И тогда за все отомщу.
______
Не могу сказать, сколько минут проходит, прежде чем я заставляю себя встать. Все это время мне казалось, что кто-нибудь из людей Голода вот-вот выйдет убедиться, что мертвые действительно мертвы. И тогда всем моим трудам придет быстрый и безжалостный конец. Но никто не выходит.
Я отряхиваюсь от земли. Она везде: в волосах, на рубашке, на всей одежде, между пальцами ног и во рту. У меня не хватает храбрости взглянуть на раны на груди, иначе я наверняка увидела бы, что и они тоже забиты землей.
Поднявшись на ноги, я окидываю взглядом яму. Стенки слишком крутые, так просто не вылезешь. Но, к счастью, в бассейне есть часть помельче, и там кто-то додумался проделать ступеньки наверх.
Но чтобы добраться до них, мне придется перешагнуть через присыпанные землей тела.
Зажмурившись, я делаю глубокий вдох, потом выдох и шагаю вперед.
Боль сразу же усиливается, дыхание перехватывает, и каждое движение дается ценой почти невыносимой муки.
Я делаю один неуверенный шаг, затем второй, третий…
Еще чуть-чуть!
Нога оскальзывается на чьей-то окровавленной руке, и я падаю. Ударяюсь о землю.
Мучительная боль…
О проекте
О подписке