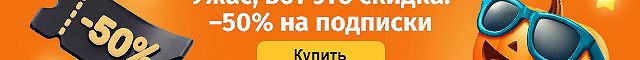
По воду
11 сентября 1941 года ввели новую норму выдачи хлеба по продовольственным карточкам. 500 граммов – рабочим, 300 – служащим, 250 – иждивенцам, детям – 300 граммов. Мы в полной мере узнали, что такое настоящий голод. Все, кто остался в нашей семье, – мама, тётя, бабушка и дедушка – нашли новую работу. Они уходили рано утром, а возвращались уставшие затемно. В доме оставалась только я и моя четырёхлетняя двоюродная сестрёнка Валя. В наши обязанности входило с утра принести воды, чтобы взрослые смогли по возвращении обмыться и сварить какую-нибудь похлёбку. В доме ещё оставались скромные запасы круп, но и те таяли день ото дня.
Как только взрослые уходили, мы с Валюшей брали по ведру и шли к пруду в Удельный парк. Я, двенадцатилетняя, набирала полное ведро воды. Сестричка была слишком мала, поэтому наливала ей лишь половину, но и это было для неё тяжело. Четырёхлетка Валя, держась за ручку обеими ручонками, кряхтя, отрывала от земли ведро, и, стараясь не пролить, осторожно несла свою ношу домой. Я видела, как ей было трудно, но она крепилась, никогда не хныкала и не жаловалась. Мы часто останавливались по дороге, чтобы отдохнуть, впереди нас ждал ещё один поход к пруду. Валенька по-взрослому справлялась с выпавшими на нашу долю трудностями. Могла всплакнуть лишь на плече своей матери, когда та возвращалась домой:
– Мамочка, я так хочу кушать, так хочу кушать. У меня животик от голода болит.
Взрослые запрещали сестре самостоятельно распоряжаться своей нормой хлеба на день, иначе она с жадностью съедала всё сразу и очень скоро снова хотела есть. Я делила ей хлеб на четыре части. И уговаривала жевать медленнее, растягивая скромные кусочки как можно дольше.
После ежедневных походов за водой я запирала Валю дома одну и бежала на занятия в танцевальный класс. Удивительно, но ленинградцы, окружённые фашистами, ежедневно умирающие от голода, продолжали вести культурную жизнь. По радио каждый вечер пели песни, читали стихи, а в театрах давали симфонические концерты и оперетты. Балетное училище продолжало жить и учить оставшихся в городе учениц и даже набирало новых. Несмотря на отсутствие в городе воды, все были в чистых белых платьицах. Таков был наш ответ немцам, желавшим стереть Ленинград с лица земли.
Мои было восстановившиеся после травмы ноги из-за голода снова начали болеть. Я боялась, что мне запретят заниматься танцами, поэтому никому не жаловалась. Танцевать я любила и делала это всегда и везде, при любой возможности. Помнится, как-то осталась дома одна и тренировалась у сделанного дедушкой станка, как раздался оглушающий, пронзительный вой сирены. К тому времени я уже привыкла к оповещениям воздушной тревоги и решила не обращать на жуткие звуки внимания. Не пошла в убежище, а вместо этого крутила фуэте, представляя, что вместо сирены играет волшебная симфоническая музыка из сказочного балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Я воображала, что фашисты – это крысиное войско, с которым расправляюсь витками фуэте.
Самых сильных учениц эвакуировали ещё в первые дни войны, теперь я благодаря своим упрямым усилиям добилась своего: снова стояла первая у фортепиано. Часто видела, как дрожат пальцы нашего аккомпаниатора. Слабость в теле была у всех, несмотря на то, что в училище нас дополнительно кормили похлёбкой из капустных листьев. Эта жижа обманывала голод, но ненадолго.
Уносить жидкий паёк с собой нам было запрещено. Преподаватели строго следили за тем, чтобы мы всё съедали сами.
Ужасы блокады
Вскоре блокадный город потрясли случаи людоедства. Для детей они казались чем-то фантастическим: мы думали, что нас это никогда не коснётся. Помню, в октябре у тёти был выходной и она занялась стиркой в задней части двора. Мы с Валей начертили белым кирпичом клетки у калитки и играли в классики. Прыгали мы медленно, не торопясь, стараясь экономить силы. От беготни и подвижных игр быстро сводило живот, но дети не могут сидеть на месте. По дороге, ведущей прямо к нам, шла худощавая высокая женщина. Кутаясь в пальто и озираясь по сторонам, она приблизилась, осмотрелась и заговорщическим тоном спросила у нас:
– Вы здесь живёте, девочки?
– Да, здесь, – без малейшего подозрения ответили мы.
– А где же взрослые?
– Они работают, а мама стирает, – простодушно доложила Валюша.
– Ах, какие красивые девочки, и совсем одни! – оживлённо всплеснула руками незнакомка. – Какие вы хорошенькие, ну просто красавицы. И наверно, голодные. Ведь голодные, да?
– Да, – призналась Валя, – у меня от голода всё время животик болит.
Я взяла сестру за руку и сказала:
– Сейчас все голодные, война ведь.
– Мои крошечки, – заливалась сладчайшим, сочувствующим голосом женщина, – как я вас понимаю. Как таких хороших девочек можно голодом морить? А будете груши? У меня дома груши есть. Хотите, угощу?
– Груши?! – в один голос воскликнули мы.
Не поверили своим ушам: в блокадном Ленинграде у кого-то дома есть груши.
– Хочу! Хочу! Хочу груши! – прыгая на месте, хлопала в ладоши Валя.
– Только тсс, – незнакомка приложила палец к губам, – тихо, а то кто-нибудь услышит и отберёт все груши. Пойдёмте со мной.
И мы доверчиво пошли. В голове, конечно, промелькнула мысль, откуда у этой женщины в октябре могут быть фрукты. Но от одного только слова «груша» рот наполнился слюной, даже нос вспомнил медовый запах этого волшебного плода. Валя доверчиво взяла женщину за руку, а я пошла следом. Мы уже прилично отошли от дома, как за спиной послышался отдалённый женский крик: «Стойте! Стойте!» Незнакомка вздрогнула и ускорила шаг. А я обернулась. Это была тётя Катя, Валюшина мама. Она бежала за нами, спотыкаясь и падая, придерживая подол юбки. Тётя в спешке бросила стирку и теперь пыталась нас догнать. Сестрёнка тоже обернулась на голос.
– Это же моя мама, мама! – Валя остановилась посреди дороги и помахала матери рукой.
Незнакомка тут же выпустила руку сестры и быстрым шагом удалилась, ничего не объяснив.
– Куда вас повела эта женщина? – задыхаясь, спросила тётя.
– Нас обещали накормить грушами, – хвастливо призналась Валя. – Только тсс, это секрет, чтобы другие не отобрали, – подражая жесту незнакомки, девочка приложила палец к губам.
– Вы с ума сошли, какие ещё груши? – всплеснула руками тётя. – Марш домой!
С тех пор нам во дворе играть одним не разрешали. А недели через две после этого случая мама с тётей вернулись с блошиного рынка, куда относили последние ценные семейные вещи, пытаясь обменять их на продукты, и рассказали страшное:
– Сейчас на рынке арестовали целую банду, торговавшую тушёнкой из человечины. Среди них была как раз та женщина, что хотела угостить вас грушами.
Слава богу, мы не стали жертвами блокадного людоедства.
Паёк для дедушки
С 1 октября в Ленинграде уменьшили суточное количество хлеба по продуктовым карточкам. Теперь норма для служащих, иждивенцев и детей составляла 200 граммов, а для рабочих и инженерно-технических работников – 400 граммов. Ленинградцы потуже затянули пояса.
Чувство нестерпимого голода, к которому невозможно привыкнуть, неотступно следовало за нами повсюду. В воздухе пахло смертью, и это наводило ужас. Страшно видеть смерть и чувствовать её дыхание. Вот идёт впереди человек. Видно, что он слаб, вяло переступает ногами по дороге. Вот он остановился, чтобы передохнуть и перевести дух. Отдышался и медленными, неровными шагами продолжает путь. Последний путь. Потому что через каких-то десять метров он падает замертво. Человек никогда уже не встанет. Его жизнь закончилась здесь, в городе, окружённом вражескими войсками, жаждущими задушить Ленинград, заморить голодом.
Но город не сдался, он продолжал жить, несмотря на то, что норму хлеба по карточкам снова снизили. С 13 ноября служащим, иждивенцам и детям теперь полагалось по 150 граммов хлеба, рабочим – 300. Люди таяли на глазах. Первым в нашей семье ослаб и больше не смог работать дедушка Саша. Он по-прежнему выменивал свои карточки на табак. Никак не мог бросить курить. Вскоре его ноги настолько распухли, что стали похожи на слоновьи. Дедушка теперь не вставал, всё время лежал. Бабушка поближе подвигала к его кровати буржуйку, чтобы он не мёрз, и уходила на работу, оставляя его на нас.
Мы с Валюшей развлекали больного как могли. Сестрёнка играла с ним в шашки, я в шахматы. Валя ликовала, хлопая в ладоши, когда ей удавалось выиграть партию у деда. Тайком мы с ней договорились делиться пайками с дедушкой. Я ломала пополам свой кусочек хлеба и подсовывала его с чаем деду Саше. Но он свою норму знал и упрямо отказывался.
– Ты опять мне от своей пайки даёшь? Что я матери твоей скажу?
– Ну дедушка, – мой голос дрожал, я готова была расплакаться, – посмотри, какой ты слабый стал, совсем уже не встаёшь.
– Ничего не хочу слышать! А ну, съедай свой кусок сейчас же! Прямо здесь, при мне, чтоб я видел! – Лицо деда становилось строгим, почти злым.
Страшно было его, всегда добродушного и улыбчивого, видеть с искажённым гневом лицом. Со слезами, давясь, я ела под его присмотром свой кусочек хлеба. Думала, что с Валюшей дедуля будет не так строг. Она же младше, с ней взрослые мягче.
Оказалось, что нет. С Валей дед Саша поступал ровно так же. Плача, с полным ртом хлеба она выбегала из его комнаты.
Вскоре дедушка ослаб настолько, что у него не было сил играть с нами в шахматы и шашки. Он больше спал.
В ноябре начался ледостав. Все ждали, когда лёд достигнет толщины 20 сантиметров, чтобы по нему могли передвигаться грузовики с провизией для осаждённого города. Потому что с 20 ноября снизили норму хлеба детям и иждивенцам со служащими до 125 граммов, а рабочим – до 250.
Уже 22 ноября первые машины отправились по автомобильной ледовой дороге. Официально она называлась «Военно-автомобильная дорога № 101», в народе же была известна как «Дорога жизни». Хотя находились и те, кто называл её дорогой смерти из-за того, что машины часто проваливались под лёд.
Дорога жизни проходила через улицу Удельную, прямо перед нашими окнами. По ночам, приложившись лбами к ледяному стеклу, мы с восторгом и благоговением наблюдали за мчавшимися мимо грузовиками. В город везли муку.
Несмотря на появившийся продовольственный путь, еды в городе всё равно не хватало. Жизненных сил и энергии у людей было мало. Носить воду из пруда стало невероятно тяжело. На помощь пришёл снег. По нему хорошо везти сани. С этим мы ещё справлялись. Можно было набирать не полведра, а целое даже маленькой Вале. Мы тянули санки за верёвочки, и они податливо ехали вслед за нами.
Хруст яблока
В первых числах декабря мама запретила мне идти в балетную школу:
– Сегодня в школу не пойдёшь, останешься дома.
– Но почему? – разочарованно спросила я. Для меня пропустить занятия танцами было целой трагедией, к тому же там давали похлёбку из капустных листьев.
– Так нужно. Не спрашивай, – строго ответила мать и повернула голову на звук открывшейся двери бабушкиной комнаты, из которой вышла тётя.
Она молча кивнула маме головой, опустив глаза, прикрыла за собой дверь и повернулась ко мне.
– Дашенька, сходи с Валюшей на пруд за водой, – по-доброму обратилась ко мне тётя Катя.
– Хорошо, сейчас оденемся и сходим, – согласилась я.
В голову закралась мысль, что в доме случилось неладное. Что-то произошло, о чём нам, детям, не хотят говорить. Я молча оделась и вышла в коридор, где меня уже ждала непоседливая Валя.
– Санки взяла?
– Угу.
– Тогда пойдём.
– Нет! – резким голосом остановила нас мать. И тихо добавила: – Возьмите сегодня одни санки, вторые нужны нам самим.
Я уже открыла рот, чтобы спросить почему, но строгий, не терпящий возражений взгляд матери заставил меня молча повиноваться. Оба ведра поставили на мои сани.
Снег приятно скрипел под ногами. Я ступала на него валенками, представляя, что это хрустит яблоко, когда его откусывают. Закрываешь глаза, видишь яблоко и кусаешь. Шаг, укус, хруст. Ещё шаг, ещё укус, ещё хруст. Я даже почувствовала во рту кисло-сладкий яблочный вкус.
Так мы дошли до пруда в парке. Я наклонилась к проруби, расчистила голыми руками снег вокруг и приняла от сестры первое ведро. Наполнив его, поставила рядом с собой и взялась за второе.
– Давай сделаем так: я пойду впереди и буду тянуть санки, а ты пойдёшь сзади и будешь придерживать вёдра, чтобы не упали, – я распределила наши обязанности с сестрой.
Путь домой дался тяжелее. Сил на то, чтобы тащить сразу два ведра, оказалось мало. Времени на это ушло намного больше. Подходя к нашему дому, я ещё издали заметила, как через распахнутую входную дверь мама и тётя вытянули на улицу сани. В них завёрнутое в дедушкино одеяло из верблюжьей шерсти, туго перетянутое верёвками, лежало тело. Вслед за санками появилась бабушка. «Дедушка!» – догадалась я. Так вот зачем они отправили нас за водой с одними санками!
Вале ничего не было видно за моей спиной. Она, добросовестно придерживая вёдра, помогала толкать сани. Малышка не должна была увидеть этой сцены. Я перестала тянуть санки и подошла к Валюше:
– Давай отдохнём немного, тяжело ведь.
– Осталось совсем чуть-чуть, дома отдохнём. – Сестра подняла голову и посмотрела на меня.
Я повернула её спиной к дому, а сама присела на корточки лицом к ней. Так мне было хорошо видно, что происходило за Валиной спиной.
– Я одну игру придумала, хочешь, расскажу? Ты так сможешь почувствовать во рту вкус яблока.
– Это как? – удивилась доверчивая Валюша.
О проекте
О подписке
Другие проекты


