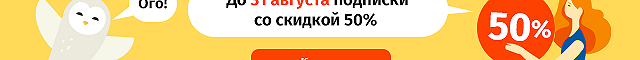
Впрочем, Жорик проявлял чудеса такта и вежливости: уходил ровно в восемь утра, прихватив всю еду, которую можно было унести с собой, и возвращался не раньше девяти вечера. Чемодан его, естественно, пропал с концами: Гордиевский лично обошёл все окрестные лавки и отели, но знакомые и незнакомые турки только разводили руками.
***
– Дядя Максим, а… куда это вы собрались?
– Ты перестанешь когда-нибудь меня дядей называть? – огрызнулся Гордиевский, примерявший новую рубашку и брюки – самые дорогие, какие мог себе позволить.
Вот засада! Именно в этот день – его единственный выходной, выделенный исключительно для похода на «Тоску», – Жорик явился не поздно вечером, как обычно, а в пять часов дня. Из-за этого одеваться пришлось в ванной комнате, где и повернуться толком было нельзя, не то что посмотреть, как сидит выходной костюм. Наверное поэтому настроение, как нарочно, было паршивее некуда и всё из рук валилось – именно сейчас, когда нужно взбодриться, собраться и выглядеть человеком.
Неделю Максим продержался на своеобразной диете: почти не пил, не считая символического глотка виски на ночь, ел только овощи и мясо, отказавшись от любимых турецких бубликов с кунжутом, и, более того, даже не перекусывал после шести.
Этот трюк пришёл ему на ум неслучайно. В своё время Лера, его секретарша, впихивала в себя по три эклера ровно в полшестого. Заметив такой странной обычай, Максим поинтересовался, в чём дело, и узнал о чудодейственной диете, заключавшейся в отказе от любой еды на ночь. На фигуре его сдобной помощницы это никак не сказывалось, но, впрочем, Гордиевскому было грех жаловаться: добродушная Лера никогда не отказывала начальнику в дополнительных услугах, стоивших ему повышенных премий и косых взглядов коллег, особенно женщин, обойдённых таким вниманием шефа…
Да, было время… И вот теперь вместо спокойного ритуального бокала вина перед выходом приходилось объясняться с Шаневичем-младшим!
– Короче, вернусь поздно, – веско сообщил ему Максим. – А может, и утром, – зачем-то добавил он, коря себя за неуместный оптимизм.
– А парфюм у вас как называется? – с энтузиазмом поинтересовался Жорик, принюхиваясь.
– Чего?
– Ваш одеколон?
– А зачем тебе?
Меньше всего Максиму хотелось теперь делиться секретами мужского обаяния: купленный в местной лавке «парфюм» лишь отдалённо напоминал те, которыми он когда-то пользовался в Москве.
– Просто люблю запахи, – увлечённо продолжал его гость. – Я их все помню. Вот папа душился «Армани», когда с нами жил, а потом перешёл на «Келвин Клайн». А ваш похож на…
– Слушай, тебе тут ещё до понедельника торчать, не больше! – прервал его болтовню Гордиевский. – Сегодня лафа: меня не будет, смотри телек, музыку слушай. Но учти: чтоб порядок был, понял?
Однако Жорик не отставал. За эти несколько дней он, получив малую толику денег, отпущенных Мишелем на квартиру, успел сделать себе пару татуировок и прямо сейчас, непременно, очень хотел узнать мнение своего благодетеля. Однако Максиму было не до узоров на руках и шее Шаневича-младшего: неожиданно хватился очков – без них никуда! – и принялся искать их по всей комнате. Чертыхаясь, наконец нашёл очки под диваном, а поднявшись, обнаружил, что выпачкал брюки в рассыпанных по полу крошках от попкорна. Вот не заладилось так не заладилось…
– Убрался бы, что ли, хоть раз! И никаких чипсов на диване! – рявкнул Максим в сердцах и принялся отряхиваться.
– Да брюки у вас в порядке, не переживайте! Совсем не заметно, – успокоил его Жорик и снова взялся за своё: – Правда, а как вам мои тату? Кринжовые, или ничего?
– Ничего. Ничего хорошего, – уточнил Максим.
Нервничать из-за какого-то попкорна не стоило – не тот случай, поэтому он примирительно добавил:
– Кстати, тут периодически в домофон звонят разные мошенники. В разговоры не вступай, все равно по-турецки ни бум-бум, понял?
– Я что? Как рыба буду молчать, – поклялся Жорик. – А ваши книжки можно почитать? – добавил он, вопросительно глядя на небольшую этажерку с книгами – жалкое подобие роскошной библиотеки, которую Гордиевский когда-то держал в загородном доме.
– Книги? Да читай, пожалуйста. Только из квартиры не выноси, потом фиг найдёшь.
– А чемодан? – горестно спросил Жорик, когда Максим уже стоял в дверях.
– «Чемодан» тоже можешь почитать. На второй полке стоит.
Он жестом указал гостю на любимые томики Довлатова и поспешно удалился.
***
В юности Максим не то чтобы ненавидел, но крепко недолюбливал музыку. Началось это с попытки бабушки пристроить его в музыкальную школу, где он несколько лет с отвращением пиликал на скрипке, терзая себя и окружающих. После фиаско с музыкальным воспитанием Гордиевский перестал воспринимать этот вид искусства как нечто особенное: просто набор звуков, приятных или не очень. Как ни пытался Мишель, игравший на трубе в школьном оркестре, увлечь его джазом, Максим ухитрялся даже под самые жаркие джем-сессии сладко спать в последнем ряду.
Конечно, как любой культурный человек, родившийся во времена социализма, он ещё отличал Гайдна от Равеля и набрался кое-каких знаний специально для участия в «Кто? Где? Когда?», но не более того. Опера никак не входила бы в перечень его интересов, если бы… Если бы в этом мире не жила она.
Конечно, это ничего не меняло. Он никогда не считал её профессию чем-то особенным, достойным охов и ахов, отпускаемых заправскими меломанами. Но теперь… Теперь её имя, случайно появившееся здесь, в Турции, украшало афиши не только Большого, но и Оперы Гарнье, Ла Скала, «Метрополитен-опера»: несмотря на все политические и околополитические потрясения, заполучить её мечтали все. «Новая Мария Каллас», «Сопрано десятилетия», «Сара Бернар оперной сцены» – как только не называли её льстивые критики, всего десяток лет назад смевшие писать о её «несовершенной технике» и «неудачной внешности».
Внешность… Неужели тогда, в их первую встречу, он счёл её непривлекательной? Это не укладывалось в голове. Но, отстраняясь от их сложной истории, Гордиевский вынужден был признать, что она отнюдь не классическая красавица. Слишком большой нос – да, пожалуй. Высокие скулы, волевой подбородок и совсем не идеальная шея – да, это так. Всё спасали и меняли глаза – те самые, что смотрели на него со всех афиш центрального Стамбула. Именно глаза делали её такой, какой она была, – необыкновенной, харизматичной, запоминающейся…
Многие ехидно отмечали и недостатки её фигуры, особенно не самый высокий рост и слишком большую грудь. Что ж, в последнем вопросе Гордиевский мог похвастаться стопроцентной, абсолютной необъективностью!
…Оперный театр Сюрейя показался Максиму каким-то тесным, излишне вычурным. Несмотря на прохладную погоду, внутри было душновато и пахло чем-то терпким и пряным, будто зал специально обработали недорогими, базарными духами. Скромный наряд Гордиевского резко контрастировал с фраками и брендовыми костюмами турок: видимо, в оперу принято было наряжаться как на праздник.
Вежливо подняв весь третий рад партера, заполненный задолго до начала представления, Максим с удовлетворением уселся на своё место: Варгик не подвёл, достал билеты что надо. Главное, артистов будет видно как на ладони – лучше, чем с первого ряда, утыкающегося в оркестровую яму.
– А чем она так хороша, эта Тельман? – услышал он родную речь и невольно обернулся.
Прямо за ним сидели три русские дамочки средних лет, разряженные похлеще турчанок.
Смерив Гордиевского равнодушным взглядом, они продолжили начатый разговор.
– Чем она хороша? Самойловым. Разве ты не знаешь, кто её муж?
– Муж? Говорят, они развелись год назад. Там был такой скандал…
– Ну и что? Всё равно Самойлов её продвигает. Он же банкир. Глава СТБ+, а это главный спонсор Большого.
– Ну, может быть… А вы знаете, что она два раза лежала в психушке? Да-да! В элитной, разумеется, только для знаменитостей. Какая-то безумно дорогая клиника.
– В психушке? И от чего же её лечили?
– Депрессия. Нет, маниакальное расстройство…
– Да ладно, наверняка сплетни!
– Никакие не сплетни, правда! Она сама рассказывала в интервью. У неё было выгорание – ещё тогда, когда она спела Норму в Ла Скала, слышали? У неё случился нервный срыв, ужасный. А потом этот развод с Самойловым… Целый год не показывалась. Да-да, я точно знаю! Это везде писали.
– Какая разница, боже мой! Важно, не с кем она там спит или от чего лечится. Как поёт, вы мне лучше скажите, как поёт?
– Хорошо поёт, ещё бы! Голос фантастический, уникальный тембр.
– Голосов хороших много. Не в этом дело.
– А в чём?
– Она не этим берёт, а другим. Понимаете, девочки?
– Ну а чем берёт? Внешне вроде обычная, ничего такого. В чём фишка?
– Чистый секс. Тельман – чистый секс на сцене! Так про неё написал один критик – этот, как его…
Гордиевский так и не узнал, кто же определил Анну Тельман как «чистый секс на сцене»: зал уже разразился громкими аплодисментами, встречая дирижёра. Максим машинально захлопал, однако мысли его были далеко.
Значит, она не замужем – уже. Всё-таки вышла за своего Самойлова, но развелась. А говорила, больше всего дорожит свободой! Впрочем, мало ли что она говорила? И он тоже плёл бог знает что, сейчас даже вспомнить стыдно…
***
Минуты тянулись бесконечно. Трели Каварадосси, на свою голову давшего прибежище революционеру, только раздражали: Гордиевский не удосужился внимательно изучить либретто, как сделал бы ещё лет пять назад, и теперь тупо ждал, когда же Анна выйдет на сцену. В конце концов, он пришёл лишь ради одного – посмотреть на неё. Конечно, роликов в интернете хватало, но он прекрасно знал, что в её случае живое впечатление сильнее, во стократ сильнее любой видеозаписи.
И вот наконец, ступая по какой-то безумной лестнице, начинавшейся почти под куполом театра, появилась фигура в белом. Спускаться ей явно было неудобно, и, когда Анна дошла до конца этого несуразного сооружения и упёрлась в дверь, за которой находился её возлюбленный, на диво малахольный Каварадосси, – публика взорвалась аплодисментами.
Гордиевский не хлопал, но смотрел во все глаза: её голос, несомненно уникальный и мощный, прельщал его в гораздо меньшей степени, чем всё остальное. И вот она, резко повернувшись, обратилась к заворожённой публике, и он смог её разглядеть…
Невероятно! Как будто она – и одновременно другая женщина.
По подсчётам Гордиевского, ей должно быть тридцать восемь. Однако сейчас казалось, что Тоске не больше двадцати. У неё вообще не было возраста, она как бы растворялась в происходящем и одновременно, словно вспышка молнии, притягивала все взоры.
Её лицо, руки, тело – всё как будто было подсвечено изнутри. Она светилась от требовательной, жаркой любви, словно этот сухонький тип, изображавший художника Каварадосси, воплощал для неё всю земную и божью благодать. И её голос лился как один сплошной поток – то выражая ревность и подозрения, то прощая и наслаждаясь взаимностью. Перевод с итальянского транслировался бегущей строкой на экране, но Максим не смотрел на английские слова: его мало интересовала суть происходящего. Только когда Тоска, последний раз прильнув к губам своего возлюбленного, потребовала: «Нарисуй ей чёрные глаза!» – он улыбнулся про себя: «А у тебя-то, чертовки, глаза не пойми какие!» После этого он перестал смотреть на сцену: всё, что происходило там без Анны, его не занимало.
Весь второй и третий акт Максим томился, едва она покидала сцену: стареющий баритон Скарпиа, пытавшийся уложить её на стол, только рассмешил его, а когда тот пел один, вообще хотелось выйти вон. Но едва снова слышался её голос и появлялась невысокая, но такая выразительная фигура, он невольно выпрямлялся на кресле и сидел так, будто Анна в любой момент могла его заметить. Конечно, ничего подобного не произошло: там, на сцене, она жила не для зрителей и уж тем более не для себя. Она просто жила – так, как жила бы сама Флория Тоска, если бы существовала. Все её движения казались настолько естественными, что грань между зрительным залом и сценой, между настоящим и придуманным, между обыденной жизнью и музыкой стиралась и исчезала, возникая снова, только когда она покидала сцену.
Перед третьим актом, решив не уходить из зала, Гордиевский не удержался и стал судорожно искать в списке контактов её номер. «Анна» – значилось там без каких-либо пояснений. Все остальные Анны были с фамилиями или обозначениями (вроде «парикмахер»), но она… Она была просто Анна. Возможно, этого номера давно не существует, кто знает?..
В тот самый момент, когда он решился написать ей сообщение, словно вспышкой из прошлого на экране появился номер его жены…
– Даш, извини, не могу говорить. Встреча с партнёрами! – зачем-то соврал он и тут же пожалел, что вообще взял трубку.
– Максик, я буквально на минуточку, – затараторила Даша непривычно довольным голосом. – У меня новость, хорошая! Я замуж выхожу! – немедленно сообщила она, и Гордиевский будто вживую увидел, как Даша просияла: наверное так же, как в тот день, когда он сам семь лет назад сделал ей предложение.
Впрочем, новость действительно застала его врасплох.
– Да, представляешь! – продолжала щебетать его бывшая жена. – Всё так быстро вышло, просто замечательно! Но мы уезжаем… Будем жить во Владивостоке, у Жени – моего жениха – там работа. Он советник губернатора… Очень престижно, конечно, и зарплата хорошая, только вот этот переезд – просто ад… Столько хлопот, ужас-ужас! У меня список дел – сто десять пунктов! Никак не могу найти надёжную компанию для перевозки… Ты не знаешь, кстати? А ещё наш Бетсик, Аришкина собачка, – оказывается, ей нужно специальную переноску и…
– А Арина? – не выдержал Максим, наконец услышав имя дочери. – И зачем вообще ты мне это рассказываешь?
– Да в том-то и дело, – продолжала Даша в прежнем радостном регистре. – Как раз для Арины! Тебе нужно сделать новые доверенности. Те, которые ты оформил перед отъездом, не подойдут. Поэтому…
– Ладно, понял… Когда вы едете?
– Ой, Макс, а что там такое? Это оркестр играет? – беспечно поинтересовалась Даша.
– Да нет, музыка в ресторане, – снова зачем-то соврал он. – Так когда вы уезжаете?
– Двадцать седьмого апреля. Успеешь? И Аришу бы повидал, как раз у неё день рождения… Кстати, мы с Женей нашли такую программу – «Зоопикник». Пригласим всю группу детского сада в зоопарк. Здорово, правда?.. Так ты приедешь? Ну пожалуйста…
– Постараюсь, – буркнул Максим и положил трубку.
Да… Значит, пока он занят невесть чем, у его дочери уже появился новый отец. Он не видел Арину так долго, что даже не представлял, какая она теперь: конечно, фото и видео ему присылали, но это не то. Трёхлетняя малышка и пятилетняя девочка – большая разница. Впрочем, она всегда до боли напоминала Дашу, даже губы, как мать, капризно складывала трубочкой: именно поэтому, возможно, по-настоящему полюбить её он, как ни старался, не смог.
Сейчас дочка вряд ли узнала бы его и наверняка не помнила, когда они виделись в последний раз. Изредка приезжая из-за границы, Максим правдами и неправдами избегал встреч с бывшей женой, тем более что она поселилась в загородном доме своего отца.
При мысли о Сергее Павловиче, сыгравшем немаленькую роль в крахе их с Мишелем фирмы, а заодно и его брака, Гордиевский привычно скривился: когда наружу выплыли аферы, которые за его спиной проворачивал неуёмный Шаневич, оказалось, что именно тесть Максима – их главный, самый злостный кредитор… Этого Мишелю простить он не мог и в ярости наделал таких грубых ошибок, что и бракоразводное дело оказалось проиграно в пух и прах, и квартиру, записанную на него, тоже по глупости потерял… Да. Никудышный бизнесмен и ещё более плохой отец. А если верить Даше, к тому же посредственный любовник.
Впрочем, Анна не могла так считать, иначе…
Встряхнувшись, Гордиевский решительно двинулся в сторону буфета: после такого разговора однозначно требовалось выпить. Когда он наконец, отстояв в длиннющей очереди, опрокинул в себя сразу две рюмки бренди, то сразу ожил – более того, неожиданно почувствовал такой отчаянный прилив сил, что руки сами потянулись к сотовому.
Была не была! Он зачем-то ещё раз отряхнул брюки, как будто снова хотел убедиться, что никакого попкорна на них уже нет, и решительно набрал сообщение:
Анна, это Максим Гордиевский. Прямо сейчас слушаю твою «Тоску». Это божественно, другого слова просто нет.
Ему также хотелось добавить что-то вроде «я был идиотом, прости, думаю о тебе всё время», но это показалось слабым, тошнотворно мелодраматичным. В конце концов он даже убрал «другого слова просто нет» и оставил «это божественно».
«Достаточно для первого послания за шесть лет, – подумал он. – Я же вообще не собирался ей писать. И даже если это её номер, будет ли она читать в антракте? Вряд ли, тем более перед последним актом».
И он поспешил в зал, чтобы увидеть, как безутешная Тоска будет горевать над телом расстрелянного Каварадосси.
***
Овации всё продолжались, и конца-края этому не было.
Анна, пылая посреди сцены в своём ярко-красном платье, не успевала принимать букеты. Максим вежливо растолкал соседей и направился к выходу: хотелось поскорее сбросить с себя этот музыкальный груз.
Однако Пуччини никак не хотел его отпускать: несмотря на равнодушие к опере, Гордиевский всем телом ощущал, как сильно пленительные звуки проникли в каждую частичку его существа. Ария несчастного Каварадосси, где звучала главная тема, словно поселилась в его голове, а перед глазами стояла Анна-Тоска в красном платье, с роскошными распущенными волосами… Когда коварный Скарпиа пытался овладеть ею, эта копна в какой-то момент опустилась прямо на них двоих – а ему казалось, что она делала так только с ним!
Чёрт! Сколько можно перемалывать это в голове? Разумнее всего теперь было наконец взять себя в руки и просто уйти. Почему бы не заглянуть к украинским девочкам: самые лучшие шлюхи города к его услугам, только плати… Впрочем, и этот лимит на сегодня оказался исчерпан. Да, когда-то стоило только свиснуть – и он получал секс не за деньги, а совершенно бесплатно… Неужели это было в этой жизни?
О проекте
О подписке
