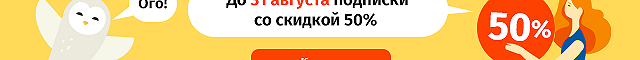
Глава 2
Каждый из берлинцев реагировал на угрозу по-своему. Некоторые упрямо игнорировали опасность, надеясь, что все обойдется. Другие куражились. Кто-то был охвачен гневом и страхом, а кто-то ощущал себя загнанным в угол зверем, приготовившимся храбро встретить свою судьбу.
В Целендорфе, юго-западном районе Берлина, как обычно, проснулся с рассветом молочник Рихард Погановска. В былые годы его каждодневные обязанности часто казались ему однообразными и скучными, теперь он испытывал к ним благодарность. Погановска работал на Далемской государственной ферме, существовавшей уже триста лет. Эта ферма находилась на самой модной окраине Целендорфа – в Далеме, всего в нескольких милях от центра огромной столицы. В любом другом городе такое расположение молочной фермы сочли бы странным, – в любом, но не в Берлине. Одну пятую всей территории города занимали парки и лесные массивы с озерами, каналами и речками. И все же Погановска, как многие другие работники, предпочел бы, чтобы ферма находилась где– нибудь в другом месте, подальше от города, от опасностей и постоянных бомбежек.
Сам Погановска, его жена Лизбет и трое их детей опять провели ночь в подвале большого дома на Кенигин-Луиз– Штрассе. Из-за грохота зениток и разрывов бомб заснуть было практически невозможно. Как и все остальные берлинцы в те дни, высокий тридцатидевятилетний молочник испытывал постоянную усталость.
Он понятия не имел, куда падали бомбы в ту ночь, но он точно знал, что ни одна бомба не упала вблизи больших коровников. Бесценное молочное стадо не пострадало. Казалось, ничто не тревожит этих коров. Посреди разрывов бомб и грохота зениток они безмятежно и терпеливо жевали свою жвачку и продолжали давать молоко. Погановска не переставал этому удивляться.
Рихард вяло загрузил свою старую коричневую тележку и прицеп, запряг двух своих лошадей, рыжеватых Лизу и Ганса, и, посадив на сиденье рядом с собой шпица Полди, отправился по привычному маршруту. Тележка с грохотом пересекла вымощенный булыжником двор, свернула направо, на Пацелли-Алле, и покатилась на север к Шмаргендорфу. Было шесть часов утра. Только к девяти вечера Рихард закончит работу.
Измотанный, истосковавшийся по нормальному сну, Погановска не изменил своему характеру, неунывающему и резковатому, и стал чем-то вроде тонизирующего средства для 1200 клиентов. Его путь лежал по окраинам трех больших районов: Целендорфа, Шенеберга и Вильмерсдорфа. Все три серьезно пострадали от бомбежек; Шенеберг и Вильмерсдорф, расположенные ближе всего к центру города, были почти полностью уничтожены. В одном только Вильмерсдорфе было разрушено более 36 000 жилищ, и почти половина из 340 000 жителей обоих районов осталась без крыши над головой. В подобных обстоятельствах веселое лицо было редким и желанным зрелищем.
Даже в столь ранний час на каждом перекрестке Рихарда Погановска ждали люди. В те дни очереди выстраивались повсюду: к мяснику, к булочнику, даже за водой, когда бомбы попадали в водопроводные магистрали. Несмотря на то что покупатели уже ждали его, Погановска звонил в большой колокольчик, объявляя о своем прибытии. Он завел этот обычай в начале года, когда участились дневные авианалеты и он не мог больше доставлять молоко к каждому порогу. Для его покупателей и колокольчик, и сам Погановска стали неким символом.
То утро ничем не отличалось от других. Погановска приветствовал своих клиентов и скупо отмерял по продовольственным карточкам молоко и молочные продукты. С некоторыми из этих людей он был знаком почти десять лет, и они знали, что время от времени могут рассчитывать на небольшой добавок. Манипулируя продовольственными карточками, Погановска обычно мог выкроить чуть больше молока или сливок на такие особые торжества, как крещения или свадьбы. Безусловно, это было незаконно, а потому рискованно, но всем берлинцам в эти дни приходилось рисковать.
С каждым днем покупатели Рихарда казались все более усталыми, напряженными и озабоченными. Мало кто теперь говорил о войне. Никто не знал, что происходит, и, в любом случае, никто ничего не мог изменить. И без них хватало кабинетных стратегов. Погановска не провоцировал обсуждение новостей. Погружаясь в свою пятнадцатичасовую ежедневную рутину и отгоняя мысли о войне, он, как и тысячи других берлинцев, становился почти невосприимчивым к суровой действительности.
Каждый день теперь Погановска видел определенные знаки, помогавшие ему не удариться в панику. Во-первых, дороги все еще были открыты. Во-вторых, на главных улицах не было ни контрольно-пропускных пунктов, ни противотанковых заграждений, ни артиллерийских установок или вкопанных танков, ни солдат, занявших тактически важные позиции. Ничто не указывало на то, что власти боятся атаки русских, или на то, что Берлину угрожает осада.
Была, правда, одна маленькая, но важная путеводная нить. Каждое утро, когда Погановска ехал через те кварталы Фриденау, где проживали наиболее выдающиеся граждане, он бросал взгляд на дом одного известного нациста, высокопоставленного чиновника берлинского почтового ведомства. Через открытые окна гостиной виднелась большая картина в массивной раме. Аляповатый портрет Адольфа Гитлера, надменного и самоуверенного, все еще висел на своем месте. Погановска хорошо знал повадки бюрократов Третьего рейха. Если бы ситуация действительно была критической, этот алтарь фюрера давно бы уже исчез.
Рихард тихо причмокнул, погоняя лошадей, и продолжил свой путь. Несмотря ни на что, он пока не видел оснований для чрезмерной тревоги.
Ни одной части города не удалось полностью избежать бомбардировок, но Шпандау, второй по величине и самый западный район Берлина, не испытал самого страшного – бомбового удара по площади со сплошным поражением. Ночь за ночью обитатели Шпандау ожидали массированного налета и удивлялись, не дождавшись его, ибо Шпандау был центром мощной берлинской военной промышленности.
В отличие от самых центральных районов города, разрушенных на 50–75 процентов, Шпандау потерял всего лишь десять процентов своей застройки. Хотя в эти десять процентов входило более тысячи разрушенных либо непригодных к использованию домов, по меркам закаленных бомбежками берлинцев это был всего лишь комариный укус. На обугленных пустырях центральных районов бытовала едкая поговорка: «Die Spandauer Zwerge kommen zuletzt in die Sarge» – «Маленькие шпандайчики последними доберутся до своих гробов».
На самой западной окраине Шпандау, в тихом, пасторальном Штакене, Роберт и Ингеборг Кольб благодарили судьбу за то, что живут в «тихой заводи». Сюда лишь иногда залетали бомбы, не попавшие в ближайший аэродром, и ущерб они причиняли незначительный. Двухэтажный, оштукатуренный, оранжево-коричневый дом с застекленной верандой и лужайкой с садом остался целехоньким. Жизнь супругов текла почти нормально, если только не считать, что Роберту, пятидесятичетырехлетнему техническому директору типографии, с каждым днем все труднее было добираться на работу в центр города, к тому же подвергавшийся дневным авианалетам. То есть Роберт ежедневно испивал всю чашу страданий до дна, а Ингеборг не находила себе места от тревоги.
В этот вечер чета Кольб планировала, как обычно, послушать радиопередачу Би-би-си на немецком языке, хотя это было давно запрещено. Роберт и Ингеборг пристально следили за наступлением союзников с востока и запада. С восточных окраин Берлина до позиций Красной армии можно было бы доехать на автобусе. Однако убаюканные сельской атмосферой своего Штакена супруги считали угрозу городу неправдоподобной, война казалась им отдаленной и нереальной. Роберт Кольб был убежден, что они в полной безопасности, а Ингеборг была убеждена, что Роберт всегда прав. В конце концов, ее муж был ветераном Первой мировой войны. «Война обойдет нас стороной», – уверял жену Роберт.
Вполне уверенные в том, что, что бы ни случилось, их это не коснется, супруги Кольб спокойно смотрели в будущее.
С приходом весны Роберт размышлял, где в саду лучше повесить гамаки. У Ингеборг были свои заботы: она планировала посадить шпинат, петрушку, салат-латук и ранний картофель. У нее оставалась одна важная нерешенная проблема: посадить ранний картофель в начале апреля или подождать более устойчивых весенних дней мая.
* * *
В своем штабе, размещенном в сером оштукатуренном трехэтажном доме на окраине Ландсберга, в 25 милях от Одера, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, сидя за письменным столом, обдумывал собственные планы. На одной из стен висела большая карта Берлина, в деталях отражавшая предложенный Жуковым план штурма столицы. На его письменном столе стояли три полевых телефона. Один – для общей связи; второй соединял его с коллегами: маршалами Константином Рокоссовским и Иваном Степановичем Коневым, командующими огромными армейскими группировками на его северном и южном флангах. Третий телефон – прямая связь с Москвой и Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным. Крепкий, 49-летний командующий 1-м Белорусским фронтом разговаривал со Сталиным каждый вечер в одиннадцать часов и докладывал о дневных успехах. Сейчас Жуков размышлял о том, как скоро Сталин отдаст приказ штурмовать Берлин. Он надеялся, что у него еще есть какое-то время. В случае крайней нужды он мог бы взять город немедленно, но пока был еще не совсем готов. Предварительно Жуков планировал штурм Берлина где-то на конец апреля. При счастливом стечении обстоятельств он мог бы дойти до Берлина и подавить его сопротивление за десять – двенадцать дней. Немцы будут сражаться за каждый дюйм, этого он ожидал. Вероятно, ожесточеннее всего они будут драться на западных подступах к городу. Там, насколько он мог видеть, пролегал единственный возможный путь к отступлению для защитников города. Однако Жуков планировал ударить с двух сторон, когда немцы попытаются вырваться из кольца.
Он предчувствовал страшную бойню на первой неделе мая в районе Шпандау.
* * *
В Вильмерсдорфе, в своей квартире на втором этаже, Карл Йоганн Виберг распахнул защищенную ставнями балконную дверь, вышел на маленький балкон и осмотрелся, оценивая погоду. Подковыляли его постоянные компаньоны Дядя Отто и Тетя Эффи, две темно-каштановые таксы, и выжидательно уставились на хозяина – подошло время их утренней прогулки.
В те дни у Виберга не было практически никаких дел, кроме выгуливания собак. Всем соседям нравился сорокадевятилетний шведский бизнесмен. Они считали его, во– первых, «хорошим берлинцем» и только во-вторых – шведом: когда начались бомбежки, он не покинул город, как многие другие иностранцы. Более того, хотя Виберг никогда не жаловался на постигшие его беды, соседи знали, что он потерял почти все. Жена его умерла в 1939 году. Его фабрики по производству клея были разбомблены. После тридцати лет мелкого предпринимательства в Берлине у него остались лишь собаки и квартира. По мнению некоторых его соседей, Виберг был гораздо более истинным немцем, чем многие немцы.
Виберг посмотрел сверху вниз на Дядю Отто и Тетю Эффи и сказал: «Пора гулять». Он закрыл балконную дверь и прошел через гостиную в маленькую прихожую, где надел прекрасно сшитый «честерфилд», пальто в талию с бархатным воротником, и тщательно вычищенную фетровую шляпу. Открыв ящик полированного столика красного дерева, Виберг достал пару замшевых перчаток и на мгновение замер, глядя на яркую литографию в рамочке, лежавшую в ящике.
Это было изображение рыцаря в полных доспехах верхом на неистовом белом жеребце. На древке копья развевалось знамя. Под поднятым забралом шлема яростно сверкали глаза. На лоб рыцаря падала прядь волос, над верхней губой красовались тонкие черные усики. На стяге можно было прочитать: «Der Bannertrager» – «Знаменосец».
Виберг медленно закрыл ящик. Он прятал литографию, потому что это изображение Гитлера было запрещено по всей Германии. Однако Виберг не желал избавляться от нее: картинка была слишком забавной, чтобы ее выбрасывать.
Защелкнув карабины поводков, Виберг аккуратно запер за собой парадную дверь и, спустившись на два лестничных пролета, вышел на мощенную булыжником улицу. У подъезда он встретил соседей и коснулся полей шляпы в знак приветствия, а затем, с собаками на поводках, отправился в путь, осторожно обходя выбоины. Интересно, где сейчас, когда конец близок, находится «Знаменосец», размышлял Виберг. В Мюнхене? В горном «Орлином гнезде» в Берхтесгадене? Или здесь, в Берлине? Похоже, никто не знает, хотя в этом нет ничего удивительного. Местопребывание Гитлера всегда держалось в большом секрете.
В это утро Виберг решил заглянуть в свой любимый бар, к Гарри Россу в доме номер 7 по Несторштрассе. Клиентура бара была довольно пестрой: нацистские шишки, офицеры и кучка бизнесменов. Здесь велись неспешные беседы и можно было узнать последние новости: куда ночью падали бомбы, какие фабрики разрушены, как Берлин все это выдерживает. Вибергу нравилось встречаться со старыми друзьями в дружеской обстановке, и его интересовали все аспекты войны, особенно результаты бомбардировок и моральный дух немецкого народа. В особенности ему хотелось узнать, где находится Гитлер. Перейдя улицу, Виберг снова поприветствовал старого знакомого. По правде говоря, Виберг знал кое-какие ответы на интересующие его вопросы, что сильно удивило бы его соседей, ибо этот швед, которого считали истинным немцем по духу, был также сотрудником сверхсекретного американского Управления стратегических служб. Он был шпионом союзников.
Доктор Артур Лекшейдт, протестантский пастор Меланхтонской церкви в Крейцберге, был охвачен горем и отчаянием. Его церковь, готическая, с двумя шпилями, была разрушена, а паства рассеялась. Руины церкви виднелись из окон его квартиры, расположенной на первом этаже. Зажигательная бомба попала прямо в церковь, и через минуту все здание было охвачено огнем.
Прошло уже несколько недель, но горе не притупилось. Однажды в разгар налета, забыв о собственной безопасности, пастор Лекшейдт вбежал в горящую церковь. Алтарная часть величественного здания и великолепный орган были еще невредимы. Взбегая по узким ступенькам на хоры, Лекшейдт думал только об одном: успеть сказать последнее прости любимому органу и церкви. С глазами полными слез доктор Лекшейдт играл свою прощальную песнь. Изумленные пациенты ближайшей городской больницы и жители, укрывшиеся в подвалах соседних домов, слышали, как под аккомпанемент рвущихся над Крейцбергом бомб меланхтонский орган исполняет гимн «В жесточайшей нужде я взываю к Тебе».
Сейчас пастор тоже прощался, но прощание его было другого рода. Перед ним на письменном столе лежал черновик письма к тем его многочисленным прихожанам, которые покинули город или служили в армии. «В то время, как сражения на востоке и западе держат нас в постоянном напряжении, – писал пастор, – немецкая столица подвергается непрерывным воздушным налетам… вы можете представить, дорогие друзья, какой богатый урожай собирает смерть. Гробов не хватает. Одна женщина рассказала мне, что предложила двадцать фунтов меда за гроб для своего погибшего мужа». Выводя следующие строки, доктор Лекшейдт испытывал не только скорбь, но и гнев. «Нас, священников, не всегда призывают на похороны жертв авианалетов. Часто партия проводит похороны без священника… без Божьего слова». Снова и снова пастор описывал разрушения города. «Вы не представляете, как выглядит теперь Берлин. Прекраснейшие здания превратились в руины… У нас часто нет ни газа, ни света, ни воды. Бог спасает нас от голода! На черном рынке продукты стоят неимоверно дорого». Заканчивалось письмо на горькой, безнадежной ноте: «Не знаю, когда снова смогу передать вам весточку. Вероятно, скоро все связи будут разорваны. Увидимся ли мы когда-нибудь? Все в руках Божьих».
Другой священник, отец Бернард Хаппих, целенаправленно пробирался на велосипеде по заваленным обломками улицам Далема. Уже несколько недель его беспокоила одна деликатная проблема. Ночь за ночью он просил у Бога совета и размышлял, как поступить. Теперь решение было принято.
Услуги священников пользовались огромным спросом, но особенно справедливым это утверждение было в отношении отца Хаппиха. 55-летний священник, поперек удостоверения личности которого было проштемпелевано «Иезуит: не пригоден к военной службе» (подобное нацистское клеймо предназначалось для евреев и прочих опасных, подозрительных личностей), был еще и высококвалифицированным доктором медицины. У отца Хаппиха было множество обязанностей, и, кроме всего прочего, он был духовным отцом Далемского дома – сиротского приюта, родильного дома и приюта для подкидышей, управляемого миссией сестер Пресвятого Сердца. Именно мать– настоятельница Кунегундес и ее паства стали причиной сомнений и принятого священником решения.
Отец Хаппих не питал никаких иллюзий на счет нацистов или исхода войны. Он давным-давно понял, что Гитлер и его жестокий «новый порядок» обречены на гибель. Теперь решительный момент стремительно приближался. Берлин в капкане и скоро окажется во власти завоевателей. Что станет с Далемским домом и его добрыми, но совершенно непрактичными сестрами?
Отец Хаппих остановился у Далемского дома. Здание было повреждено незначительно, и сестры были уверены, что их молитвы услышаны. Отец Хаппих не разубеждал их, но, будучи практичным человеком, думал, что чуду немало поспособствовали удача сестер и ошибки наводчиков.
Проходя через холл, священник поднял глаза на огромную статую в голубых с золотом одеждах: святой Михаил, предводитель небесного воинства, борец со вселенским злом, стоял высоко подняв меч. Хотя вера сестер в святого Михаила была вполне обоснованной, отец Хаппих радовался тому, что принял свое решение. Как и все остальные, он слышал рассказы беженцев, спасающихся от наступающих русских, об ужасах, творящихся на востоке Германии. Многое, как он был уверен, было сильно преувеличено, но кое-что было правдой. Поэтому он решил предупредить сестер. Оставалось правильно рассчитать время и, главное, подобрать единственно верные слова. Отец Хаппих был сильно встревожен. Ну как сообщить шестидесяти монахиням и послушницам, что им грозит изнасилование?
О проекте
О подписке