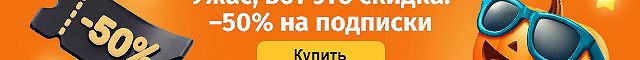
Жанна опустила глаза, и на лице ее появилось выражение тупого упрямства, какое бывает у избалованных и недобрых детей. Я поражался, как может подниматься со дна души Жанны на поверхность все самое плохое, что там лежит? И именно сейчас, когда люди приносят ей лучшее, что есть в их сердцах? Я знал, как много добрых качеств в этой душе, и терялся в догадках, что может быть причиной ее ожесточения.
Иллофиллион молчал, и какое-то чувство неловкости за Жанну охватило меня. «Неужели Жанна не ощущает, какое счастье для нее и для любого человека находиться рядом с Иллофиллионом?» – думал я. Я и представить себе не мог, чтобы можно было не осознавать той высокой мудрости, которая исходила от Иллофиллиона, и не переживать ее как счастье.
– Как вы считаете, Жанна, не надо ли вам сходить к княгине и поблагодарить ее за заботы о ваших детях? – спросил Иллофиллион тихо, но четким и внятным голосом, который – я знал – несет в себе целую стихию для человека, к которому он был обращен.
Упрямство не сходило с ее лица, и она ответила капризно, с досадой, как будто бы к ней приставали с мелкими и нудными вещами:
– Я не просила никого заботиться о моих детях; позаботились – сами хотели; ну и баста.
Я так онемел от изумления, что даже не смог вмешаться в разговор. Я никак не ожидал от Жанны подобной вульгарности.
– А если завтра жизнь найдет, что неблагодарных нужно вернуть в их прежнее положение? И вы окажетесь снова на пароходе с детьми, без гроша и без защиты добрых людей? – пристально смотря на нее, сказал Иллофиллион.
Жанна как бы нехотя, лениво подняла глаза и… задрожала вся, умоляюще говоря:
– Я и сама не рада, что все бунтую. Меня возмущает, что все меня учат, точно уж я сама ничего не понимаю. Я делаю шляпы так, что на весь Константинополь уже прославилась; ведь это что-нибудь значит? Не могу же я и детей воспитывать, и дело вести, и, наконец… жизнь не только в детях! Я хочу жить, я молода. Я француженка, а мы рано привыкаем к светской жизни. Я хочу посещать театры, рестораны, бывать на званых вечерах, а не дома все сидеть, точно в монастыре, – говорила возбужденно Жанна.
– Давно ли вы так изменили ваши взгляды? На пароходе ведь вы говорили мне, что готовы всю жизнь отдать уходу за детьми, борясь за их жизнь и здоровье? – глядя на нее, продолжал Иллофиллион.
– Ах, доктор Иллофиллион, что вы все поминаете этот пароход? Ведь это все было давно – так давно, что я даже забыла обо всем, что там было. Меня дамы приглашают к себе в гости, хотят познакомить с интересными кавалерами, а вы мне все говорите о детях. Не убудет же от них, если я повеселюсь! – протестовала Жанна, досадливо хмурясь.
– Нет, быть может, им будет даже лучше, если они и вовсе не будут жить с вами. Но вам, неужели вам кажется лучше та рассеянная жизнь, о которой вы мечтаете? Неужели в детях вы видите помеху?
– Я вовсе не скрываю, что очень хотела бы отправить детей к родственникам. Я их очень люблю, буду, наверно, скучать без них, но я не могу сделаться хорошей воспитательницей. Я раздражаюсь, потому что они мне все время мешают.
– Дети ведь теперь уже все время живут у Анны. И если вам приходится их видеть, то не потому, что вы зовете их, а потому, что они хотят видеть вас. Они бегут к матери и, награжденные сначала поцелуями и сладостями, а потом шлепками, возвращаются к Анне, говоря няне: «Пойдем домой». Вам их не жаль, Жанна? Не жаль, что дети называют своим домом дом чужой им Анны?
– Вы хоть кого доведете до слез, доктор Иллофиллион. Неужели я так долго ждала вас и Левушку сегодня только затем, чтобы быть доведенной до слез?
– Я, я, я – других мыслей у вас нет, Жанна? Вы ни одного лица чудесного, доброго, светлого не запомнили за это время? Образ сэра Уоми не запечатлелся в вашей памяти? – спрашивал тихо Иллофиллион.
– Ну, сэр Уоми! Сэр Уоми – это фантастическая встреча! Это святой, который вышел в грешный мир на минутку. Это так высоко и так – вроде как до Бога – далеко, что зачем об этом и говорить? Он вышел, как улитка, показал свои рожки и скрылся, – опустив глаза, тоном легкомысленной девочки болтала Жанна.
Я думал, что грозовая волна от Иллофиллиона ударит Жанну и разобьет ее в куски. Из его глаз, расширившихся, огромных, точно вылетели молнии, губы сжались, прожигающая сила точно хотела вырваться, но… он сделал какое-то движение рукой, помолчал и – в полном самообладании – мягко сказал:
– На этих днях мы с Левушкой уезжаем. Вероятно, сегодня вы видите нас в последний раз наедине, когда мои разговоры, столь тяготящие вас, могут касаться дорогих вам людей. У Анны дети жить долго не могут. Она прекрасная воспитательница, но у нее сейчас иные задачи и дела. Если жизнь, которую рисует вам Леонид, так для вас заманчива – идите, наслаждайтесь всеми страстями этой жизни. Но уверен, что когда-нибудь вы будете горько рыдать, вспоминая эту минуту! Когда осознаете, что стояло перед вами, кто был возле вас и как вы сами все отвергли…
Любовь – это не та чувственность, которая сейчас разъедает вас и в которой вы думаете найти удовлетворение. Но все равно. Что бы я ни сказал вам теперь, вы – слепая женщина, слепая мать. Как слепа та мать, которая видит в жизни одно блаженство – «мои дети» – и портит их своей животной любовью, так и слепа и та, которая не видит счастья в том, чтобы воспитать и вывести в жизнь порученные ей души, для которых она создала тела, – обе одинаково слепы и никакие слова их не убедят.
Отправлять ваших слабых здоровьем детей к родственникам, где жизнь груба и где о них будут заботиться не больше, чем о собаках или курицах, нельзя. Если вас они стесняют, я могу отправить их в прекрасный климат, в культурное семейство, где есть две воспитательницы, отдающие этому делу и любовь, и жизнь.
Но этот вопрос должен быть решен при мне, и, пока я еще здесь, их увезет Хава, которая вернется к вам и для которой я прошу у вас гостеприимства на несколько дней. Завтра мы зайдем к вам, и вы скажете нам о вашем решении. А вот и Анна, нам пора уходить.
Анна, видимо, торопилась, учащенно дышала и была бледна от жары.
– Как я рада, что застала вас, – здороваясь с нами, сказала она. – Но что с вами, Иллофиллион? Вы, право, точно Бог с Олимпа, прекрасны, но гневны. Я еще ни разу не видела вас таким. – Она обвела всех нас глазами, снова посмотрела на Иллофиллиона и вздохнула.
– Я рада, что вы здоровы, Левушка, – обратилась она ко мне. – Но неужели вы оба уедете раньше, чем вернется Хава?
– Хава будет здесь завтра, она свою задачу выполнила так, как только и могла ее выполнить воспитанница сэра Уоми, – ответил Анне Иллофиллион. – Я просил у Жанны приюта для нее на короткое время. Дети, Анна, не могут оставаться у вас. Если Жанна не передумает, Хава отвезет их в семью моих друзей.
– Как? – вне себя, бросаясь к Жанне, воскликнула Анна. – Вы хотите отдать детей? Но вы не сделаете этого, Жанна! В последнее время вы очень склонны к капризам. Но это с вами пройдет, опомнитесь!
– Я именно опомнилась. Я совсем не хочу в монастырь, как вы. И раздумывать не желаю. Я отдаю детей вам, доктор Иллофиллион. Хава может их увезти хоть завтра, – холодно сказала Жанна, поражавшая меня все больше. Я не узнавал прежней Жанны, милой, ласковой.
– Жанна, ведь вы все это наговариваете на себя! Это ваше слепое упрямство, а завтра будете плакать, – настаивала Анна.
– Ни за что не буду плакать! Что вы все ко мне пристали со слезами? Вы воображаете, доктор Иллофиллион, что я буду оплакивать разлуку с Левушкой? Нет, я уже поумнела! – перешла Жанна на вызывающий тон.
– Когда жизнь будет казаться вам невыносимой, когда вы будете обмануты, брошены и унижены – оботрите лицо пологом, который я повесил у вашей кровати, – ласково, печально сказал Иллофиллион. – Обратитесь тогда к князю, как к единственному другу, в сердце которого не будет презрения к вам и негодования за ваше поведение. Не забудьте этих моих слов. Это единственный завет любви, который я могу вам оставить. Не забудьте его.
Голос Иллофиллиона, при его последних словах, звучал точно колокол. Мне вдруг почудилось, что в воздухе пронеслось что-то грозное, бесповоротное, что положило Жанне на голову венок не из роз, о которых она мечтала, а из терниев, ею же самой вызванных и связанных.
Я снова вспомнил слова капитана о Жанне. Сердце мое разрывалось, глаза были полны слез. Я глубоко поклонился Жанне и в первый раз не притронулся, прощаясь, к этим крохотным ручкам. Я хотел бы встряхнуть ее, обнять, образумить, но сознавал, что сил моих не было даже на то, чтобы своим мужеством поддержать ее. Я горько плакал, когда Иллофиллион выводил меня из магазина, перед которым уже остановилась коляска с нарядными дамами.
Только сила спокойствия и мужество Иллофиллиона помогли мне вспомнить о Флорентийце, мысленно уцепиться за его руку и остановить рвавшиеся рыдания. Мне казалось, что Жанна закусила удила и все лучшее в ней скрылось под мутью наболевшего сердца. Точно кривое зеркало отражало ей мир и людей в вульгарной форме, пряча все прекрасное под пошлостью и злобой.
Когда мы приехали домой и вошли в комнату к Ананде, он ни о чем не спросил, только сказал мне, по обыкновению словно залезая в мою черепную коробку:
– Отдели временное и уродливое от вечного, не умирающего. И поклонись страданию человека и той муке, которую он испытает, когда страсти засохнут, упадут, как шелуха, и он себя увидит в свете истины. Он ужаснется и будет искать свет, который ему когда-то предлагали. Но путь к свету – в самом человеке. Научить здесь нельзя. Сколько ни указывай, где светло, – увидеть может лишь тот, у кого свет внутри. Скорбеть не о чем. Помогает не тот, кто, сострадая, плачет. А тот, кто, радуясь, посылает улыбку бодрости страдающему, не осуждая его, а понимая его положение.
Через некоторое время пришел князь, сказал, что княгиня уже отдохнула после ванны, лекарства ей даны и мы можем начинать лечение.
Ананда и Иллофиллион были сосредоточенны. Они коротко отдавали мне приказания. Все мы переоделись в белые костюмы, и я нес запечатанный пакет с халатами и шапочками, который мы должны были вскрыть у княгини, чтобы там же надеть на себя специально приготовленную одежду.
Я ни о чем не спрашивал, но чувствовал, что оба моих друга видят в предстоящей операции что-то очень серьезное и трудное.
Княгиня была беспокойна, на щеках ее горели пятна, видимо, ванна ее утомила.
Ананда велел сестре приготовить бинты, еще кое-что проверил в приготовленных ранее лекарствах и дал больной капель. Когда она уснула, он сделал ей три укола и какой-то большой иглой довольно долго вливал в вену сыворотку темного цвета.
Когда рука была забинтована, он велел мне все убрать в принесенные аптечки и футляры, сел возле кровати и сказал князю:
– Через два часа у нее будет бред и повышенная температура, ее будет лихорадить. К утру ее состояние улучшится, больная будет часто просить пить. Давайте ей это питье по глотку, но не чаще чем через 20 минут. Сможете ли вы сами точно все исполнить? Если появится тошнота или боль, пошлите за мной, но сами не отходите от больной. Так оба с сестрой и дежурьте около нее, не отлучаясь из комнаты. Думаю, что все будет хорошо, и я сам, без зова приду вас проведать.
Простившись с князем, мы пошли к себе, но Ананда увел нас в свои комнаты, где предложил нам разместиться по-походному.
Мысли о Жанне не покидали меня. Я перечел еще раз письма брата и Флорентийца, мысленно приник к руке моего великого друга, моля его о помощи, но лег спать – в первый раз за все это время, – не примиренный и не успокоенный.
Не помню, как я заснул в этот раз. Но помню, что я поражался спокойному и даже торжественному выражению лица Иллофиллиона, который сидел за столом, разбираясь в каких-то записках.
Утром, часов около семи, Ананда вышел из своей комнаты, говоря нам, что пройдет к больной один, а если мы ему понадобимся, пришлет за нами.
Я очень был бы не прочь еще подремать, но Иллофиллион встал мгновенно. Это меня устыдило, и я тоже отправился в душ, раздумывая о том, что я ни разу не видел больным ни Иллофиллиона, ни Ананду. Чем и как были так закалены их организмы? Я этого не знал и очень сожалел, что до сих пор не выполнил указаний моих друзей насчет занятий гимнастикой и верховой ездой.
Мы с Иллофиллионом вышли в сад и хотели было пройти в беседку, но встретили по дороге князя, звавшего нас к Ананде без всяких лекарств.
– Я вас позвал, чтобы вы полюбовались на княгиню, – весело встретил нас Ананда на пороге комнаты больной.
Княгиня лежала, вернее полусидела, посвежевшая, точно помолодевшая и такая бодрая, какой я ее еще не видел. Зато у князя был вид усталый, и только его сиявшие глаза говорили о том, как он счастлив.
Поздравив княгиню с выздоровлением, Иллофиллион сказал князю, чтобы он шел немедленно спать, так как его жена может быть оставлена под присмотром сиделки. А вечером, за обедом, мы встретимся с ним все, и у нас есть к нему просьба и большой разговор.
Князь обрадовался, сказав, что для него двойная радость, если он может быть полезен Иллофиллиону, и мы расстались до вечера.
Мы троем вышли из дома, выпили кофе у приятеля-кондитера и расстались с Анандой, который пошел по своим делам, принявшим для него сейчас совершенно иной оборот. Ни разу Ананда не сказал о своем разочаровании в связи с расстроившейся его поездкой в Индию. Ни разу никаких признаков досады – что было бы вполне естественным для обычного человека в подобной ситуации – не промелькнуло в нем в связи с осложнениями, причиненными ему Анной, Генри, Ибрагимом. Если их имена и мелькали в его разговоре, то лишь в связи с его состраданием к их судьбе и несчастьям.
Не раз я думал о том, как бы я горевал, досадовал и обвинял того, кто создал бы мне препятствие на пути и нарушил бы мои планы. Вспомнив все, что я перенес за это время, я отдал себе отчет, сколь малому научился, несмотря на все передряги.
– Что задумался, Левушка? Ведь ты, пожалуй, даже и не знаешь, куда мы сейчас идем? – очнулся я от голоса Иллофиллиона. – А между тем мы подходим к цели. Сейчас будем у Строгановых. И, вероятно, застанем Елену Дмитриевну с Леонидом за завтраком, – и это будет наш прощальный визит.
Мы действительно застали мать и сына за столом; но мне показалось, что они говорили о чем-то не слишком приятном для обоих.
Узнав, что мы уезжаем, Строганова встревожилась.
– Неужели и Ананда едет тоже?
– Нет, он пока останется. Но почему вы так встревожены? – спросил Иллофиллион. – И почему у Леонида вид упорствующего и воинствующего дервиша?
– Если бы речь шла о монашеской секте, мне было бы много легче, – ответила мать. – Куда сложнее, когда проблема связана с женщиной. А сейчас… что же от вас скрывать? Вбил себе в голову мальчишка, что ему надо жениться на этой смазливой французской кукле!
Только прикосновение Иллофиллиона к моей руке помогло мне смолчать. Точно оса укусила меня в сердце, когда я услышал слова Строгановой.
– Представляете себе? Двое детей и мамаша сядут нам на шею, – возмущенно продолжала Строганова.
– И вовсе не будет с нею детей, – вмешался Леонид. – Она их отправит к родственникам.
– Я просто в толк не возьму, чем она тебя околдовала? И когда это все совершилось? Ведь это гипноз какой-то! – бурлила мать, точно кипящая кастрюля.
– Ну, что тут, мама, разбирать, когда да что? Хочу – и баста! Сказал, женюсь на ней, и чем больше будешь противоречить, тем скорее женюсь, – возражал любимчик.
О проекте
О подписке
Другие проекты

