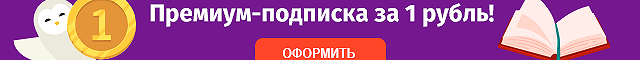
ШТОПОР
Пилотам, штурманам,
а также воздушным стрелкам,
которые ушли покорять Небо, —
и пока еще не вернулись…
«Ух ты! Петруха, делай, как я! Командир, командир, Саня, веди ребят, а я с этими в кулючки поиграю». – «Не многовато ли, Вадим: восемь – на двоих?!» – «Нор-маль-но! Не „бубновые“ – щенки, летают криво. Не родился еще фриц, который… А в случае чего, ты знаешь, оторвусь от них штопором – что мне их аэродинамика. Стань ближе, Петруха, и делай, как я…» – «Осторожней, Вадим!»
Я услышал это в самый тяжкий момент, когда в глазах все померкло, и лишь слышно было, как стучала маленькими молоточками кровь в затылке. Я гонялся на своем «МиГе» за полковником Ляпотой, стараясь заснять его на пленку фотокинопулемета. Называлась эта игра – «воздушный бой». Полковник старался оторваться от меня, а я держал его в плавающем перекрестье и жал, жал на гашетку. И тут услышал этот голос, и он показался мне знакомым…
У меня иногда бывает так. Я вижу картины, не относящиеся к реальности, слышу голоса, далекие от действительности, особенно в машине или в самолете, когда пропадает ощущение настоящего, теряешь контроль над сном и явью и впадаешь в какой-то транс; но особенно яркими они бывают, эти видения, в мгновения восторга или опасности.
Земля и небо неслись колесом, пыль стояла в кабине, летали какие-то бумажки, в глазах то прояснивало, то меркло, не даром полковник Ляпота завалил, как поговаривали, пару «Миражей» и «Фантом» в Алжире, где воевал, как тогда преподносили, «наблюдателем». Когда летали с ним на «спарке», он учил: «Плюнь на инструкцию, подходи как можно ближе, лишь бы ошметки не задевали. И цель по носу – не попадешь, так хоть напугаешь». И я наплевал на инструкцию и держался в двухстах метрах – как в Алжире; висел на хвосте у Ляпоты, будто привязанный; а он у меня – в плавающем перекрестье… В глазах то и дело темнело: сперва исчезал цвет, потом появлялись «мушки», мир голубел и уменьшался до размеров ладони, и вдруг разом пропадало все, словно вырубали свет. А я тянул, тянул ручку что есть силы, самолет дрожал в предштопорной тряске, угрожающе покачиваясь с крыла на крыло, и тогда приходилось отпускать на мгновение штурвал, чтобы посмотреть – держусь ли? Ляпота не щадил ни меня, ни себя: обороты были по заглушку, ручка – до пупа; мы неумолимо набирали высоту, уже заголубело, а потом почернело небо…
И тут опять услышал: «Петруха, со всех стволов – огонь! Еще! Еще! Гори-ит! Держись ближе. И не бойся штопора – пусть они боятся. Они педанты, им и в голову не придет…» И понял, что это меня зовут Вадимом, мне уже двадцать пять, я не курсант, а – капитан и Герой, наяву увидал семерку «мессершмиттов», восьмого дымящего, и гигантское колесо воздушного боя, и свой самолет, американскую «Аэрокобру», трясущийся в предштопорной лихорадке. «Саня! Я с ними еще поиграю – можно?… Петруха!»
И тут все это в клочья рвет голос Ляпоты:
– Три девяносто три, кончаем бой. Молодец, хлопец. Выиграл!
Вечером в казарме я угощал друзей. Пили армянский, «Отборный», с пятью звездочками, – летчики как никак. Я отмечал свой триумф. У Ляпоты не бывало похвал, тем более в эфир. Ляпота был известный «зарубщик». Я сидел на тумбочке, пьяный от успеха и славы, и думал… думал о том неизвестном Вадиме. Странно, у меня всегда были симпатии к этому имени, все знакомые Вадимы – мои друзья. Кто он, этот Вадим? И чем кончился неравный тот бой?
Я часто вспоминал об этом видении. И ждал, когда же оно повторится. И оно повторилось. Через год.
* * *
К тому времени я уволился. Получил летное свидетельство, офицерские погоны и распределение на Курилы – в тот самый полк, который собьет вскорости южнокорейский самолет, – но к месту службы не поехал. Зуб сочинительства, прорезавшийся еще в юности, к тому времени вырос окончательно: в местном издательстве предложили заключить договор на издание книжки. Стоял выбор: авиация или литература. Я выбрал второе. Отца чуть удар не хватил. Он попытался уговаривать. Когда почувствовал, что бестолку, решил воздействовать дедовским испытанным способом. Но в этот раз досталось самому…
Я сидел на пороге, – голова гудела после драки, – и планировал, летел почти на ощупь, в темноте, – я опять был Вадимом, рука плохо слушалась, а в сапоге хлюпала кровь, занемевшими губами шептал: «Саня! Я ранен. Ухожу на аэродром. Пока…» – «Вадим! Вадим! – звал ведомый. – „Мессер“ справа». – «Уйдем штопором – у них на это кишка тонка…» И тут пробивается голос отца, просительный, жалкий:
– Сынок! Езжай в полк. Ведь можно и летать, и писать…
Старый не понимал: то, что наполовину, неминуемо погубит целое.
Я сделал выбор. Долго потом будут сниться самолеты, – чуть ли не каждую ночь летал во сне, и часто просыпался с мокрыми глазами, – но это будет потом. А тогда – без колебаний – вместо гвардейского полка пошел в школу военруком, – там была возможность писать. Первая книжка не принесла ни славы, ни успеха. Из школы выгнали за популяризацию «белогвардейца Бунина»; ушел в милицию, где ввязался выводить на чистую воду не тех, кого надо; обещали «устроить в тюрьме отдельную камеру», но устроили аварию: в машине, когда мчались под гору, вдруг отказали тормоза. Был гололед, машина закрутилась на дороге, и нас понесло в кювет. То ли дверь от деформации открылась, то ли я сам ее распахнул, но только через мгновение уже летел рядом с машиной – все вертелось, все крутилось, но страха не было; в голове стоял равнодушный вопрос: «Ну что – все?» И тут я опять ощутил себя Вадимом, увидел свой продырявленный самолет как бы со стороны, он осторожно планировал, словно спускаясь с горки, и шестерку «мессершмиттов», выстроившихся в кольцо, и расстреливающих этот беззащитный самолет, и услышал истошный крик Петрухи-ведомого: «Вадим!
Смотри направо!» – «Ничего-о! Не успеет. Не родился еще…» – и шквал трассирующих пуль, огненный сноп перед глазами, и грязное брюхо «мессера», и моя струя, распарывающая это брюхо. «Ага-а! Гори-ишь, „бубновый!“ – „Осторожней, Вадим! Еще один заходит!..“
Ну, повезет – не повезет…
Мне в тот раз повезло. Я ударился в кювете о землю и какое-то время лежал, не помня себя, – я все еще был Вадимом, я, раненый и истекающий кровью, все еще вел неравный бой, и было поздно сваливаться в штопор, высота уже не позволяла выкинуть такой финт. Я осторожно планировал – самолет был как решето и почти не слушался рулей. «Саня! Я ранен…» – «Вадим! Друг!..»
Врачи называют это «ложной памятью», а йоги – законом кармы, переселением душ.
Да, мне повезло в тот раз. Меня словно кто подхватит, поддержит на лету и плавно опустит на землю. Шофер попадет в реанимацию, а я отделаюсь синяками и шишками. Видно, не обошлось там без Вадима… После этого случая пойму: умереть можно в любой момент. Потому жить нужно и писать так, будто всякий день – последний.
* * *
Давно уж не снятся мне самолеты. Давно не летаю – даже во сне. Я сугубо штатский человек.
И вот попал как-то в дом прославленного военного аса. Когда-то он был моим непосредственным, самым высшим начальником. Я с благоговением переступлю порог и… Летчики не умирают, вспомню, – они улетают и не возвращаются. На вешалке в прихожей – его маршальская шинель и фуражка, словно хозяин вышел на минуту. Форма висит, нетронутая, уже несколько лет… Над дверью в его кабинет – картина: «Аэрокобра» проносится через облако только что взорвавшегося на собственных бомбах «юнкерса». Я никогда не видел эту картину, а тут вдруг – угадал. И сразу же зазвучал знакомый, полузабытый голос…
– Здравствуйте! – перебила его хозяйка и обратилась ко мне: – Извините, вы… летчик?
– Да, когда-то… в прошлом.
– Вас зовут… Вадим?…
После чего показала пачку фотографий. На них в обнимку с прославленным асом стоял… я! Все было одно к одному: и раскосый рассеянный взгляд, и косолапость, и полный белых зубов рот, и даже – даже! – рыжеватая бородка. Сколько ругали и журили, наверное, Вадима за нее, такую непрезентабельную.
– Он упал в кубанские плавни, неподалеку от хутора Гарний. У ведомого после боя оказалось сто двадцать пробоин… Но я не верю в смерть Вадима. Он жив, так же, как мой Саша. Летчики ведь не умирают… – и нежно погладила сукно мужниной шинели.
Я чуть не сказал о нашей с Вадимом тайне; двое в одной оболочке, мы часто срываемся в штопор, – он для нас родная стихия…
А через полгода случится мне быть на Кубани; заверну на хутор Гарний и спрошу встречного старика про сбитый во время войны самолет. Старик оживится и скажет, что несколько лет назад осушали плавни и подняли какой-то самолет, явно нерусский, а в нем кости и череп – «ядреный такой, и зубов в ём богато!» – и что из черепа Петяка Чоловик сделал себе пепельницу. А теперь этот байстрюк – хуторской атаман! – сплюнет дед сердито.
Я разыщу этого Петяку – он предстанет в кубанке и шароварах с голубыми лампасами, – покажу ему фотографии, и когда этот потомок запорожцев, отдав с неохотой свою «пепельницу», пренебрежительно хмыкнет: «На шо вин мени, твий краснопузый сталинский сокил; вин защищал советcку власть, – лучше б вин ее не защищал…» – после таких слов сорвусь и два раза ударю Чоловика по безмозглой его башке, так что слетит баранья шапка…
Вот он, этот череп с отпиленным затылком, у меня на столе. Череп Героя Советского Союза Вадима Фадеева, прожившего двадцать пять лет и сбившего двадцать пять фашистских самолетов.
Что с ним делать?
Андрей Воронцов
ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился в 1961 году в Подмосковье. Окончил медицинское училище, работал фельдшером на «Скорой помощи», одновременно учился в Литературном институте им. А. М. Горького. С 1987 года работал и печатался в журналах «Октябрь», «Новая Россия», «Московский журнал», «Русский дом». В настоящее время – член редсовета журнала «Наш современник». Автор прозаических книг и литературно-исторических исследований: «Победитель смерти», «Белая голова», «Замкнутый путь в тумане», «Детское досье об убийстве Кеннеди».
Член Союза писателей России.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ
– Ты живешь в каком-то выдуманном мире, – сказал я как-то в сердцах сыну, который вместо уроков вел бой с невидимым врагом.
– Да, – ничуть не смутясь ответил он, – мне так легче жить в настоящем.
Что я мог ему возразить? Разве не знаю я взрослых людей, придерживающихся той же точки зрения? Один мой друг, историк, всерьез задумал писать кандидатскую с таким названием: «Зиновий Петрович Рожественский – выдающийся флотоводец XX века». В аспирантуре сначала смеялись, потом ругались, а потом его выгнали. Работал он после этого консьержем в «элитном» доме, но диссертацию не забросил, доказывал, какой творец Цусимы был гениальный человек. Короче, он тоже создал себе выдуманный мир, чтобы легче жилось в настоящем.
Что ж, не мне осуждать его – сам не потому ли писательствую? Но я терпеть не могу эту новую историческую моду: из неудачников делать гениев, а из поражений – победы. Это ведь, если разобраться, обратная сторона поражения. А с другой стороны, бесконечная цепь поражений последних лет научила меня не радоваться преждевременно маленьким удачам, к чему тоже был склонен Василий (так звали моего друга).
Вместе с Василием мы не пропустили ни одной демонстрации протеста, начиная с 23 февраля 1992 года, а это, кто помнит, не всегда было полезно для здоровья. И едва ли не на каждом митинге он мне говорил: «Ну все, теперь уже Ельцину немного осталось!» И впрямь, от шествия к шествию нас становилось все больше: 23 февраля следующего года никакие силы уже не смогли сдержать прорыв 300-тысячной колонны на Манежную. Казалось, и вправду осталось чуть-чуть… Но грянул позорный апрель, когда одна часть русского народа проголосовала за расправу над другой, и я засомневался…
В ночь на 4 октября 1993 года мы сидели с Васей у костра в роще возле Дома Советов. Мы уже знали о случившемся в Останкине. День, прошедший под знаком неслыханной нашей победы, заканчивался сокрушительным поражением. Мы ни слова не говорили о происходящем, вообще ни о чем не говорили – подбрасывали сучья в огонь, наливали себе водки, выпивали, не чокаясь, как на поминках… Между светящихся точно изнутри березовых стволов плясали огни других костров, а над ними неровными оранжевыми шарами дрожали маленькие зарева. Порой пламя выхватывало из темноты чье-нибудь лицо – и оно тут же исчезало, будто подхваченное дуновением ветра, и снова становилось частью ночи, наполненной шелестящими голосами, звоном бутылок, бренчанием гитарных струн. И, как знать, может быть, эти лица принадлежали тем, кого наутро уже не было в живых… Никто ни о чем не спорил, ни к чему никого не призывал. Изменить ничего было нельзя – оставалось только ждать утра. Запах дыма и печеной картошки смешивался с запахами опавшей листвы, сырой земли, древесной коры и грибов, хотя их время давно уже прошло. Где-то рядом пели: «А в тайге по утрам туман…», а немного дальше, перевирая мотив, битловское: «Хей, Джуд». Эти голоса и запахи доносились словно из прежних времен, когда не было ни уличных сражений, ни омоновцев со щитами и дубинками, а в моде были туристические слеты и конкурсы авторской песни. Но были и другие голоса. «Спаси, Господи, люди Твоя», – пели в другом конце парка негромко и красиво, но вскоре пение перекрыл длинный разухабистый вздох гармошки, заигравшей с места в карьер плясовую. «Эх, эх, эх!» – забухали в землю подкованные сапоги, невидимые плясуны засвистали молодецкими посвистами.
– Русский человек!.. – заорал кто-то из темноты. – Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Русский человек!.. Что это такое? «Веселие и питие»! Он создан для того, чтобы пить и веселиться! А его засунули в жопу. Ему, дионисийцу, придумали долг и идеи. Опутали правами и обязанностями, будь они неладны. На фига ему это? Наша
Родина – веселье! «Смотреть до полночи готов на пляску с топотом и свистом под говор пьяных мужичков»! Вот она – Расея, вот он – русский человек!
О проекте
О подписке
Другие проекты
