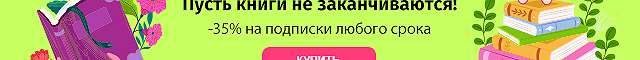
В выборе нарратива русской православной духовной автобиографики универсальной остается ориентация на жития. По личным свидетельствам очевидно, что наряду с богослужебной и учительской литературой жития, особенно благодаря популярной версии – Четьям-Минеям св. Димитрия Ростовского, являются не просто привычным, но любимым чтением весь XVIII и существенную часть XIX века. Типология религиозной автобиографики определяется соответственно основным топосам житийной литературы: это «пространное житие» («жизнь во Христе») и пассия/мартириум. В первом случае стержень составляет возрастание «из силы в силу», во втором, аналогично spiritual autobiographies, – духовный кризис (см. Манчестер о тяготении белого духовенства к первому типу, а светской интеллигенции ко второму).
Влияние авторской литературы, включая церковных авторов вроде Блаженного Августина, смешанные жанры (как Фенелон или Даниэль Дефо) и светские образцы типа Лафатера или Руссо, в религиозной автобиографике отличается от светской традиции. Упоминания о чтении такого рода нередки в автобиографиях духовенства или верующих мирян. Упоминаются «Письма русского путешественника» Карамзина (1791–1792) или, к примеру, «Записки морского офицера» Владимира Броневского (1817)[29]. Вряд ли, однако, это можно сравнить с литературоцентризмом поколения читателей «Вертера» и Руссо[30], который прямо обусловил культ «внутреннего человека» у нарождающейся интеллигенции.
С другой стороны, разделить автобиографический нарратив в литературе на светский и религиозный едва ли возможно[31]. Не говоря уже о «назидательной» литературе, которая входила отнюдь не только в религиозный канон чтения, – как пользовавшийся бешеной популярностью Фенелон и тот же Дефо или разного рода и степени мистики и гностики (автобиография Юнг-Штиллинга, сочинения Арндта, Эккартсгаузена, Сен-Мартена и т. п.) – но даже сугубо светских авторов читали по-разному и «вычитывали» разное содержание.
Далее, со смещением понятий о «духовности» в XIX веке светская литература берет на себя часть функций духовной; мы можем наблюдать смешанные формы литературно обработанной автобиографики или фикциональных дневников священников (Лукашевич). Действительное отграничение в религиозной автобиографике по отношению к литературе существует скорее применительно к легким жанрам, «романам»; они прямо противопоставляются житиям как вымысел – правде (Сдвижков).
Взаимопересечение светского и религиозного в автобиографике включает интертекстуальность: как нередки в религиозных автобиографиях заимствования из светской дворянской литературы такого профиля, так же часты, наоборот, в светских текстах цитаты из религиозных. Особенности стиля, там, где они есть, определяют церковный обиход синодального периода и сословная субкультура духовенства: использование, аналогично французскому в дворянской автобиографике, латыни[32]; противопоставленная, наоборот, дворянству, «разночинская» манера; намеренно патриархальный, архаизированный язык, использующий многочисленные библейские образы и отсылки к церковному бытию.
С развитием жанра, появлением в печати многочисленных автобиографических произведений духовного характера во второй половине XIX века образцы, а скорее уже шаблоны, воспроизводятся на их основе. В свою очередь, житийная и созданная в ее русле автобиографическая литература влияет на светских авторов, от интеллигентов-шестидесятников и народников[33] до крестьянских свидетельств (Херцберг)[34] и автобиографики революционеров. Последние построены по тому же типу истории обращения в веру, а в языке, которым описывается «жизнь за идею», присутствуют образы и приемы, типичные для духовной автобиографики (Дальке).
Из сказанного уже ясно, что авторы сборника – не сторонники бинарных противопоставлений. Последние облегчают восприятие исторических реалий, которые часто не поддаются классификации и не могут быть описаны в рамках аналитических моделей. Но противопоставления неизбежно подчиняют материал своей логике и могут существовать только на уровне абстракций. В исследованиях же реального исторического материала антагонизм модерности и религиозности, или, в русском варианте, линейность «обмирщения» при европеизации и модернизации, уже давно поставлены под вопрос[35].
Однако и логика множественности, плюрализма, отрицания границ имеет такую же инерцию, как и то, что она опровергает. Отсутствие линейности в связи религиозности и модерности не означает отсутствие самой этой связи. Христианство – религия личности, определяющая европейское представление о персональном и существующая в нем. В то же время религиозное Я в России после Петра I формировалось со становлением культурных норм, во многом противопоставленных христианской традиции, как ее понимали и поддерживали до Петра (см. Феофанов).
Разделения играли важную роль в формировании самосознания, в том числе религиозного, а границы влекли не только путешественников. Сравнимый с Реформацией эффект в России вызвал раскол, а затем появление гражданской сферы жизни, «светской команды». Вера перестала быть само собой разумеющейся данностью, требовала рефлексии, нового открытия, заставляла высказываться. Именно с появлением альтернатив, как и в эпоху конфессионализма в Европе, церковность в России стала фактором идентичности. При последующем постоянном расширении империи, включением в нее иноконфессиональных областей это становилось лишь все более зримым (см. Колман)[36].
При империи «гражданское» отождествлялось с государством, службой, «пользой общей». «Духовное», «божественное» силой вещей и волей верховной власти постепенно было отсюда вытеснено и стало восприниматься как частное, личное. В автобиографике это заметно по различиям между личными свидетельствами на службе и вне ее (см. Сдвижков). Но при этом новое религиозное самосознание в послепетровской России формировалось вместе с новым самосознанием гражданским. Интериоризация гражданских ценностей имперского патриотизма, кодекса чести, цивилизационных норм шла параллельно с интериоризацией ценностей религиозных, и это отразилось на отмеченной в исследованиях религиозной составляющей русского Просвещения[37]. Для следующего XIX века «классической» русской культуры модерности в России приписывают «hybrid and self-searching character»[38], а «Исповедь» Толстого выглядит как «попытка повернуть вспять ход развития западной мысли»[39].
Очевидно, что религиозное самосознание (religious self) новой России нельзя исследовать статично, его социальная прописка и вектор распространения неоднозначны. Считать двор, даже петровский, рассадником обмирщения, значило бы игнорировать роль, которую религиозные смыслы играли в «сценариях власти»[40] или, скажем, придворное проповедничество в истории русской проповеди[41]. Постоянного внимания и рефлексии требовали законодательное оформление религиозной жизни, усилия по ее упорядочиванию и дисциплинаризации.
Логично ожидать здесь активного участия образованных элит – и действительно, бóльшая часть религиозной автобиографики XVIII века принадлежит дворянам и церковным иерархам. Но в то же время принципиально иной вес в этой области имеют факторы харизматические: ведь начинается история духовной автобиографики с протопопа, и в дальнейшем вехи в ее истории расставляют фигуры масштаба о. Иоанна Кронштадтского[42].
На протяжении XVIII–XIX веков можно видеть, как постепенная демократизация автобиографики связана с ростом образования, расширением культурного и религиозного канона. Именно в этом жанре можно впервые услышать голоса до того «безмолвствующих» групп из социальных низов – приходского, сельского духовенства, крестьян (см. Херцберг), солдат[43]. Не в последнюю очередь это касается и женщин. На протяжении нашего периода они начинают играть особую роль в религиозной культуре, их личные свидетельства составляют важную часть религиозного «ревивализма» по всей Европе[44]. В начале женской автобиографики в России – мемуары монахини Нектарии alias Натальи Борисовны Долгоруковой[45]. Роль текстов, принадлежащих женщинам, наглядно демонстрирует и статья Надежды Киценко[46].
Сборник завершается статьями, посвященными судьбе наследия имперского/синодального периода после 1917 года[47]. Трудно представить себе более противоположных людей, чем те, которым посвящены эти статьи: один – епископ в преследуемой катакомбной церкви, другой – лидер большевиков, непосредственно связанный с антирелигиозными кампаниями. Тем не менее поражает сходство пламенной веры у них обоих. Хотя рефлексии епископа о своем прошлом и настоящем, написанные в 1928–1934 годах, проникнуты духом катастрофы, он сравнивает себя в то же время с первыми христианами и благодарит Бога за то, что ему выпало жить в этих нуждах и горестях; преследования лишь укрепляют его в вере (Беглов). В то время как восторг и радость, которые испытывает большевистский лидер, говоря о революции с реальной и виртуальной публикой, упрочивает его веру в коммунизм (Дальке).
Включение статьи о большевике Емельяне Ярославском в сборник по религиозной автобиографике, казалось бы, расширяет понятие «веры» вопреки высказанному вначале до функционального понятия в духе Эмиля Дюркгейма: вера здесь выполняет определенные общественные функции, а не связывает со сверхъестественным. Но, с другой стороны, религиозные аллегории, которые приводит Ярославский, его сравнение себя с Христом говорят о типичном для Нового времени секулярном переосмыслении религиозных ценностей.
В качестве итога для введения и оценки результатов своих усилий любой не излишне самонадеянный автор или составитель сборника не может не поставить в конце многоточия. Тем более должны это сделать мы для сюжета, который затрагивает ни много ни мало веру, личность и ее самосознание: «the marvel of consciousness – that sudden window swinging open on a sunlit landscape amidst the night of non-being…»[48].
О проекте
О подписке
Другие проекты
