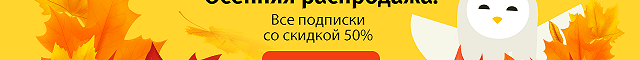
Одной из форм такого преодоления для Варшавского, как и для многих младоэмигрантов, стал русский Монпарнас. Роль данного хронотопа в жизни молодой русской эмиграции всецело показана в книге «Незамеченное поколение». Парижский бульвар с его открытыми всю ночь кафе и неизменной литературно-художественной богемой, с одной стороны, был настоящим социальным дном, по словам самого же Варшавского, здесь собирался «всякий сброд»: «К двум часам ночи у стоек монпарнасских баров, казалось, воскресал знаменитый Двор Чудес. <…> Показательно, что в „Последних Новостях“ Милюкова, лучшей в то время русской газете, сообщение о смерти Бориса Поплавского было напечатано под заголовком „Драма на монпарнасском дне“. И Монпарнас был действительно одним из кругов парижского дна»[102]. С другой – темная сторона монпарнасского опыта, где отщепенство и смерть (гибель поэта и друга Поплавского), вроде бы, прочно переплелись, не отменяет какой-то особой созидательной миссии этого парижского топоса. Не случайно писатель неоднократно возвращался к монпарнасскому феномену в исследованиях, воспоминаниях, выступлениях, эссе и литературной критике.
Варшавский здесь не одинок, значение русского Монпарнаса было отмечено многими писателями русского зарубежья. Достаточно привести слова идейного вдохновителя молодых парижан Георгия Адамовича: «…Франция как бы не замечала и даже просто не видела этих чудаков, откуда-то бежавших, чего-то ищущих, чем-то недовольных и к тому же вечно меж собой ссорящихся. Франция их не отталкивала, но о них и не помнила… Какое было ей в сущности дело до кучки молодых и среднего возраста людей, что-то сочиняющих на своем непонятном языке и мало-помалу растворяющихся в бездомно-интернациональной богеме, подлинным отечеством которой стал Монпарнас?»[103] Знаменательно противопоставление равнодушной Франции – Монпарнасу-отечеству. Поистине же фундаментальной точкой опоры и «отечеством» для молодой эмигрантской литературы стала провозглашенная Адамовичем «Парижская нота», созданная во многом аурой Монпарнаса.
Термин, в котором переплавились музыка и точные географические координаты, весьма символичен. Ни берлинской, ни пражской «ноты» русское зарубежье не предложило (речь идет не о литературных объединениях, которых в русском рассеянии было немало, а о масштабном феномене). Однако взаимоотношения новой эмигрантской поэтики с «адресом» своего пребывания крайне многосложны и неоднозначны. Так, идейный оппонент «Парижской ноты» Марк Слоним ничего жизнеутверждающего в русском Монпарнасе не видел, хотя и проводил заседания литобъединения «Кочевье» в одном из бульварных кафе (Taverne Dumesnil – 73, bd. du Montparnasse). Значит, не только фактическая принадлежность к монпарнасскому адресу превращала бульвар в «свое место». Антагонистичную позицию по отношению к монпарнасской среде Слоним декларировал в одном из писем к Владимиру Варшавскому: «Я „монпарнассцем“ не был, и „нота“ Адамовича – Иванова мне всегда была чужда и неприятна, они были певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения. Марксисты скажут, что они отражали психологию „побежденного класса“. Монпарнас погиб не только во времени, но и в тех, у кого была душа жива и кто не хотел терять связи с Россией. И хотел на – Россию, для – России (а не эмиграции) работать»[104]. Это соображение нам представляется крайне важным – в нем соединены в одно (хотя и со знаком минус) несколько основополагающих слагаемых русского Монпарнаса как феномена состояния, времени и места. Слоним трактует эти слагаемые зеркально: русский Монпарнас не «отечество», но альтернатива «связи с Россией» (редукция места); не обещание будущего, а яркий пример самоистощения: «Монпарнас погиб не только во времени» (редукция времени); не новое слово в литературе, а банальное повторение поэтики декаданса: «уныние, безверие, поражение и разложение» (редукция созидания). По большому счету для Слонима русский Монпарнас был символом небытия, местом непригодным для тех, у кого «душа жива». Эта трактовка идеологии монпарнассцев, «Парижской ноты» и – шире – мировоззрения молодого поколения русских парижан была поддержана многими представителями старшего поколения, а в современной исследовательской рецепции вылилась в формулу «искусство отсутствовать»[105].
Остается задаться вопросом – что имели в виду сами молодые парижане, когда утверждали, что под влиянием «Парижской ноты» «родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и не важного, вечного и временного»[106], или когда вспоминали «общую атмосферу, т. е. известный духовный климат, какой-то сговор о том „главном“, к которому хотели прийти, о том враждебном, от чего отталкивались…»[107]. На чем зиждилось «важное», «вечное», «главное» – понятия, далекие от поэтизации «разложения» и «пустоты»? Что отстаивали младоэмигранты, так настойчиво доказывая созидательный пафос монпарнасской эпохи, выстраивая бинарные оппозиции по отношению ко всему «временному» и «враждебному»? И если все эти завоевания Монпарнаса были со «знаком плюс», то что означает категория отрицания, так устойчиво прописавшаяся в автопортрете молодого поколения?
По-своему этот ребус решается у Варшавского через сквозную в его творчестве проблему «своего места». В «Незамеченном поколении» он дает описание русского Монпарнаса, которое, при всей документальности, имеет глубоко личный дискурс: «Но для нас в „Селекте“ за обычными декорациями парижского кафе и за лицами грешников магически проступала глубина другой реальности. Наши составленные вместе столики, казалось, были отделены невидимой линией Брунгильдыот всех других столиков, от Парижа, от всего враждебного внешнего мира, где для нас не было места: обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние. Капище орфических посвящений, Ультима Туле, особое призрачное царство»[108]. Этот пассаж во многом повторяет приведенное выше описание Адамовича и в то же время несет характерные только для Варшавского родовые черты. В рисуемой здесь монпарнасской панораме явственно присутствует ментальная граница («линия Брунгильды»), отделяющая враждебный внешний мир, где младоэмигранту «нет места», от призрачного мира русских парижан («обломок другой планеты»); за этой чертой, или крайним пределом, рождается «другая реальность». Предложенное Варшавским описание важно для понимания двоемирия феномена русского Монпарнаса. Отверженность, пустота, отсутствие «своего места» – априорная данность, особенно для «незамеченного поколения», которое никакой «настоящей былой России» фактически не застало. Для молодого эмигрантского писателя небытие — это эмпирический опыт и первичный строительный материал. Между тем сознание и творческая воля способны выстроить некий водораздел и не только отделить «враждебный внешний мир» от своего места, но и создать «другую реальность». В сущности, в этом пассаже речь идет о тайне художественного метода молодой эмигрантской литературы. Наблюдение Варшавского помогает по-новому увидеть многие «типичные» эмигрантские произведения, созданные, по определению Марка Слонима, «певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения». На поверхности этой литературы – подробное, бесстрастное описание небытия, пустоты или отверженности, однако семантическая перспектива нередко, меняя свою траекторию, движется в обратном направлении. «Парижская нота» являет массу примеров такого зеркального опрокидывания «враждебной» данности и ее парадоксального преображения в «другую реальность». У Бориса Божнева – это преодоление смерти в самом финале поэтического сборника «Борьба за несуществованье» (1925) вопреки почти навязчивой аксиоме названия книги. У Бориса Поплавского – это феномен апокатастасиса (полного восстановления) в стихотворении «Рождество расцветает…» вопреки каскаду негативных лексем («пусто», «безучастно», «страшно» и т. д.)[109]. У Георгия Иванова – это образы России и дома как «последнего приюта», которыми магически оборачиваются отчаяние, изгнание и смерть в стихотворении «За столько лет такого маяния…»[110]. Приведенные примеры точечны, но в то же время показательны (с тем же успехом можно назвать «Ночные дороги» Гайто Газданова или «Приглашение на казнь» далеко не монпарнасского Владимира Набокова). Для современного же исследователя представляет большой интерес отследить на уровне предметного стилистического анализа текста – как, какими средствами из материала с негативной коннотацией в этих текстах создается новая жизнеутверждающая реальность; каким образом «пустота», или «ничто», оборачивается воссозданием «своего места», а небытие – восстановлением своего настоящего «я». Очевидно, что в приведенных примерах присутствует этико-онтологическое усилие, диаметрально противоположное пафосу самоубийства.
Сам Варшавский неоднократно указывал на эту парадоксальную особенность новой эмигрантской литературы. В набросках к программному докладу «Русский Монпарнас», который писатель прочел на склоне лет в «Русском кружке» Женевского университета (23 января 1974 года)[111], он замечает: «С исследованиями еще неизвестных областей сознания связана надежда, что вместе с мутными подземными волнами станет доступно темному зрению „оттуда“ хотя бы самое низменное и темное, но приносящее реальное ощущение потусторонней жизни души: то есть все та же великая и безумная надежда человека – найти доказательства бессмертия. Ибо чем дальше сознание роет в глубину себя, тем сильнее проступает…»[112], – далее запись обрывается. Здесь Варшавский задает вектор в рецепции феномена литературы русского зарубежья. Предметом осмысления выступает мировоззренческая и творческая воля целого литературного поколения вопреки эмпирической реальности (потери своего места, распыления, несуществования) найти на уровне крайнего предела («Ультима Туле»), или «глубины себя», точку опоры для бытия. Проще говоря, речь идет об искусстве присутствовать.
Художественный метод самого Владимира Варшавского во многом отвечал принципам «Парижской ноты». В русском зарубежье он стал одним из ярких представителей литературы человеческого документа и за ним закрепилось устойчивое определение «честный писатель»[113] – это значило: простота повествования, максимальная непредвзятость в описании событий и людей, выразительный аскетизм. В целом как художник Варшавский отвечал лапидарной формуле Адамовича: «Искусство тем чище, чем беднее на вид»[114]. Однако в случае с Варшавским мы имеем дело с глубоко личным, индивидуальным становлением авторского почерка – не столько писатель следовал требованиям «ноты», сколько сама «нота» совпала с его мировоззрением. Впрочем, именно в «созвучности» (отзывчивости, диалогичности, неавторитарности) нового литературного течения кроется его невероятная популярность в среде молодой эмигрантской литературы. Для Варшавского же многое совпало в «ноте» с его родовой темой искания «своего места». Простоту стиля и фактографическую точность его произведений вряд ли можно объяснить ученическим буквализмом или неспособностью к вымыслу. Мировоззренческие истоки своего художественного метода писатель так объяснял в романе «Ожидание»: «Но я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне увернуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая. <…> Непосредственные впечатления не могут быть пошлыми или глупыми. Я для того и пишу, чтобы их проявить…»[115]. Вскоре после выхода романа в свет Варшавский запишет в дневнике: «…ведь самое трудное начать: потом начнется радость усовершенствования, или, как у Толстого, „снимания покровов“, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть» (запись 19 мая 1973 года)[116]. Здесь кроется объяснение роли «писательства» в жизни Варшавского: точное фиксирование реальности было для него одной из форм преодоления небытия. Здесь же – глубинные связи художественного метода Варшавского с феноменом русского Монпарнаса как места, где воссоздавалась, проявлялась «другая реальность».
Важнейшим опытом сопротивления небытию для «незамеченного поколения» стала Вторая мировая война. В автобиографической повести «Семь лет», а затем в романе «Ожидание» Варшавский опишет собрания литературно-философского объединения «Круг» (1935–1939) как место, где сошлись старшее и младшее поколения русского Парижа. Выбор идеолога и создателя «Круга», видного общественного деятеля русского зарубежья Ильи Фондаминского, а также участников Георгия Адамовича, Бориса Вильде, матери Марии, Владимира Алексинского и других в пользу «Резистанса» стал еще одной формой борьбы за «другую реальность». Насколько принципиальным для Владимира Варшавского было участие во Второй мировой войне против нацистской Германии подтверждает его воинский путь. Эта веха в судьбе писателя настолько значительна, что о ней стоит сказать отдельно.
В сентябре 1939 года Варшавский записался добровольцем во французскую армию, в недолгой «странной войне» не только побывал в боях, но и проявил солдатскую доблесть, оставшись последним на линии огня при защите Булонской цитадели. По документам, отложившимся в фонде писателя[117], и по исследованиям, посвященным военным событиям тех лет[118], следует, что Варшавский сперва воевал в составе 19-го полка 22-й дивизии, расположенной на бельгийской границе в городе Живе. После прорыва немецкой армии под Седаном, когда немцы взяли в один гигантский котел миллион человек, началось массированное отступление французов. Изо дня в день окруженные французские части, слабея под ударами совершенной немецкой военной машины, отступали к морю, и 14 мая бои завершились поражением. У союзников и французской армии оставались еще три ключевых порта – Булонь, Кале и Дюнкерк. Варшавский примкнул к дивизии, которую перебросили в Булонь. Финальные бои за город начались 22 мая 1940 года и закончились 25-го. Атаки на Булонь шли с юга и с запада вдоль берега, постепенно сужаясь до сражений в крепости, где и оказался Владимир Варшавский. В целом бои шли 36 часов, все это время у французов не было воды и питания, водопровод был разрушен, заканчивались боеприпасы. После очередной массированной немецкой атаки французы сложили оружие, однако части, находившиеся в замке, об этом не знали, продолжая оказывать сопротивление, и сдались только после приказа командира дивизии. Одним из солдат, сражавшихся до последнего за Булонскую крепость, был будущий автор «Незамеченного поколения».
После поражения французских войск Варшавский провел пять долгих лет в немецком плену, а по окончании войны 8 января 1947 года был награжден известной французской наградой – Военным крестом с серебряной звездой (Croix de guerre avec Etoile d’Argent). Военные события писатель воспроизвел в автобиографической прозе (цикл военных рассказов, повесть «Семь лет» и роман «Ожидание»). Символично описание одного из боев и переживаний главного героя в эти дни: «В первый раз в жизни я делал что-то, признаваемое всеми нужным и важным, в первый раз у меня было место в человеческом обществе, ия не испытывал моего всегдашнего страха, что я живу не так, как все. Наоборот, у меня было теперь спокойное чувство укрепленности моей жизни в чем-то достоверном и прочном»[119].
Здесь сквозной мотив искания «своего места» в творчестве и в жизни писателя достигает апогея. Непреднамеренная и в то же время почти дословная перекличка текста Варшавского со словами статьи Д. Чижевского об «онтологической силе и крепости конкретного бытия»[120] – наглядное свидетельство эволюции концепта «своего места» в литературе русского зарубежья. Герой Варшавского, alter ego писателя, возвращает себе «укрепленность», «достоверность» и «прочность» вопреки зримой реальности разрушения. Конкретность описываемого места действия — массовый обстрел цитадели, гибель боевых товарищей во время очередного артобстрела. Однако именно в этот момент начинается обратный отсчет в судьбе героя, его путь к этическому равновесию. В условиях войны (всецелого наступления «враждебного внешнего мира») извечное эмигрантское искание своего места обретает поистине эпические черты и становится в прямом смысле слова вызовом смерти.
О проекте
О подписке

