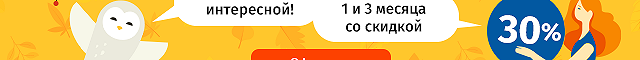
…Некрасов по свойственной ему филантропии тоже не побережет и ухлопает каким-нибудь реторическим, но вольнодумным стихотворением, Панаева (эту ни в чем не повинную жопу «Современника») призывали и пудрили. – Весь этот скандал чрезвычайно неприятен всем нам, остальным литераторам, тем, что цензура опять выпустит свои кохти, на что цензора имеют полное нравственное право, если мы, литераторы, станем так поступать с ними и для придания полукуплетным стихам своим значения станем печатать в оглавлении Рылеевские думы, которые и сами-то по себе имеют некоторой смысл потому только, что этот человек был удавлен (Писемский, с. 103).
Письмо схожего содержания Писемский отправил Тургеневу 27 ноября: «В „Современнике“ вышел цензурный скандал, которого, впрочем, и ожидать следовало, Панаева, эту ни в чем не виновную жопу редакции, призывали и пудрили»151. Писемский явно считал лично ответственным именно Некрасова (хотя тот и отсутствовал в Петербурге во время развернувшихся событий). Наконец, 2 декабря Е. Я. Колбасин писал Тургеневу о схожей реакции В. П. Боткина (о ней упоминал и Дружинин), который также был возмущен самим Некрасовым: «…и чего еще нужно этому Некрасову? разве ему мало – имеет квартиру, экипаж, задает обеды, – и чего еще ему нужно? разве ему этого мало?»152 Колбасин, впрочем, в этой ситуации был возмущен именно позицией Боткина – показательная позиция для человека, занимавшегося литературой скорее как любитель и не вникавшего в детали отношений между писателями и цензорами.
26 ноября Тургеневу о тех же событиях написал уже П. В. Анненков – и остался одним из немногих участников обсуждения, нейтральным по отношению к редакции журнала:
…к нему <«Современнику»> приставили И. И. Лажечникова вместо Бекетова и велели следовать полицейскому распоряжению, вследствие коего можно и тройкой ездить по улицам, но подвязав колокольчик, беспокоющий всех прохожих, без исключения153.
Вероятно, именно сдержанность в суждениях, присущая Анненкову, побудила Некрасова обратиться к нему 6 (18) декабря из Рима:
Вы – и никто более – пришли мне на память, когда я подумал: кто мне может объяснить в точном виде меру неприятностей, вызванных моим стихотворением «Поэт и гражданин»? Согласитесь, что мне это нужно знать – в отношении к «Современнику» (в котором я – по убеждению своему и Тургенева – не нашел удобным поместить это стихотворение, как и некоторые другие, явившиеся в книге154.
Очевидно, сам Некрасов, находившийся, напомним, за границей, плохо понимал произошедшее, однако не сомневался, что отвечал за «историю» с перепечаткой не Чернышевский и даже не цензор, а его соредактор Панаев155. Именно об этом он писал Тургеневу в тот же день, как отправил письмо Анненкову, то есть даже не разобравшись еще в обстоятельствах дела:
Панаев неисправим, я это знал. Гроза могла миновать «Современник», будь хоть ты там. Такие люди, как он, и трусят и храбрятся – все некстати. Я не меньше люблю «Современник» и себя или мою известность, – недаром же я не решился поместить «Поэта и гражд<анина>» в «Современнике»? Так нет! надо было похрабриться. Впрочем, Панаева винить смешно: не гнилой мост виноват, когда мы проваливаемся!156
С точки зрения Некрасова, републикация его стихотворений в журнале была вовсе не злонамеренной провокацией, а непродуманной оплошностью Панаева, к которому серьезных претензий предъявлять было невозможно. Схожего мнения придерживался и сам Тургенев. Например, в письме Л. Н. Толстому от 8 (20) декабря 1856 года он так же, как и Некрасов, называл ответственным за произошедшее Панаева:
…что «Современник» в плохих руках – это несомненно, – Панаев начал было писать мне часто, уверял, что не будет действовать «легкомысленно» – и подчеркивал это слово; а теперь присмирел и молчит, как дитя, которое, сидя за столом, наклало в штаны. Я обо всем написал подробно Некрасову в Рим – и весьма может статься, что это заставит его вернуться ранее, чем он предполагал157.
Тургенев, как и Некрасов, воспринимал перепечатку стихотворений в «Современнике» не в качестве сознательной политической акции, а как своего рода детскую шалость Панаева.
Таким образом, петербургское литературное сообщество практически единодушно возложило ответственность на сотрудников «Современника». Никто прямо не обвинял в произошедшем цензуру; не упоминался в переписке и Чернышевский. Впрочем, среди литераторов высказывалось два различных мнения: Некрасов и Тургенев, в этот период относившиеся к сотрудникам «Современника», осознавали, что имеют дело не с принципиальной позицией журнала, а с неудачной публикацией, не соответствовавшей установке редакции. Напротив, Гончаров, Дружинин, Боткин и Писемский считали ответственным за случившееся лично Некрасова, а выступление журнала воспринимали как «кукиш в кармане», показанный властям редакцией, не готовой приспособиться к новому времени. Так или иначе, в литературных кругах большинство считало ответственными за произошедшее вовсе не цензоров.
Объяснить такую неожиданную (и неслучайно пропущенную историками литературы) позицию возможно, как кажется, если учесть популярность идеи сотрудничества между правительством и обществом после смерти Николая I. В это время литераторы стремились прощупать возможные пути контакта с цензорами; схожие действия в их отношении предпринимали и либеральные чиновники. В этих условиях обе стороны должны были, разумеется, соблюдать принципиальную осторожность. Публикация и републикация стихотворений Некрасова на этом фоне воспринимались обеими сторонами как резкое нарушение сложившихся конвенций. Именно поэтому реакция на происшествие цензора Гончарова очень близка к реакции Некрасова – редактора самого оппозиционного журнала в России того времени: оба они считали, что действия «Современника» подрывают возможность продуктивного взаимодействия между литературой и властью.
Исключением оказался главный виновник конфликта – Чернышевский, вообще не веривший в возможность сотрудничества цензоров и писателей. 5 декабря 1856 года он сообщал Некрасову:
Прежде всего я должен сказать Вам, что различные толки и т. п. по поводу Ваших стихотворений далеко не имеют той важности, какую готовы им приписывать иные люди. Месяца два-три, и все успокоится. Вообще, дело не так ужасно, как думают легковерные, хотя и не вовсе приятно. Через два-три месяца все забудется и успокоится158.
В отличие от большинства литераторов того времени, уже в середине 1850‐х годов Чернышевский не писал о якобы хороших отношениях с цензурой, испорченных стихотворениями Некрасова. Именно поэтому он и не пытался судить о произошедшем с точки зрения долговременных последствий: если цензору суждено всегда оставаться оппонентом, нечего огорчаться по поводу очередного столкновения с ним. В конфликте Чернышевского интересовали лишь прагматические последствия – возможные ограничения на публикацию произведений Некрасова или каких-либо других журнальных материалов. Едва ли речь здесь может идти о простом самооправдании или исключительно о желании успокоить адресата: Некрасов на тот момент даже не знал об ответственности Чернышевского за случившееся. В этой связи очень последовательно выглядит его значительно более поздний комментарий, написанный уже в ссылке:
Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник» – года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него <…> О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»…159
Переоценивая свою вину, Чернышевский пишет вовсе не о значимости конфликта с точки зрения взаимоотношений цензуры и общества, а исключительно о подозрительном отношении цензоров к «Современнику» и к поэзии Некрасова. Иными словами, цензура его беспокоит именно как сугубо негативная сила, которая может только угнетать в большей или меньшей степени: никаких качественных различий в позиции цензоров Чернышевский не видел. Соответственно, никаких надежд на положительное взаимодействие с ними заместитель Некрасова не питал и питать не мог.
Как показали дальнейшие события, в последнем Чернышевский оказался прав: в 1860‐х годах надежды на перестройку отношений с цензурой на новых основаниях в целом покинули русских писателей. Отношения писателей и власти в целом, разумеется, могли быть самыми разными, однако в большинстве случаев цензурные репрессии не вызывали ничьей поддержки. 23 июня 1866 года А. В. Никитенко записал в дневнике:
Я не помню давно, чтоб правительственная мера производила такое единодушное и всеобщее негодование, как пресловутый известный рескрипт о запрещении двух журналов: «Современника» и «Русского слова» – последнее, впрочем, потому, что сделано помимо закона (Никитенко, т. 3, с. 40).
В этих условиях уже трудно представить себе единодушную и притом в целом терпимую реакцию на цензурные репрессии, характерную для 1856 года.
Отношение к этому конфликту менялось не только у литераторов, но и у цензоров, особенно близких к литературному сообществу. Если в начале скандала Гончаров был склонен обвинять поэта, то в рапорте от 22 апреля по поводу нового издания стихотворений он писал, что запрещать их не следовало:
…имею честь присовокупить, что, с своей стороны, нахожу как домогательство г-на Некрасова о новом издании, так и доводы его справедливыми и основательными, ибо если некоторые его стихотворения, печатавшиеся в разное время в «Современнике», и обращали на себя внимание несколько лет тому назад своею смелостью, то это потому, что о вопросах, которых он касается, не было тогда ни изустных, ни печатных толков, как например о крестьянском вопросе, о вреде пьянства; между тем ныне правительство не стесняет благонамеренных преследований и изображений недостатков и злоупотреблений по этим вопросам <…>
Книга г-на Некрасова до тех пор не перестанет возбуждать напряженное внимание любителей поэзии, ходить в рукописях, выучиваться наизусть, пока будет продолжаться запрещение ее к свободному изданию, как это показывают многочисленные примеры в литературе (Гончаров, т. 10, с. 48–49).
Таким образом, отношения между литераторами и цензорами в начале царствования Александра II быстро менялись. Цензор оказался как бы на границе литературы и бюрократии. С одной стороны, изменения свидетельствуют о развитии и автономизации публичной сферы в России 1860‐х годов. В это время столичным литераторам уже не приходило в голову, что печать тесно связана с государством и, по сути, делает одно дело с цензурой. С другой стороны, цензура и литература оставались неотделимы друг от друга: литераторы продолжали учитывать позицию цензоров в своем творчестве (и были лишены возможности поступить иначе), тогда как цензоры были обязаны входить в вопросы их творчества и принимать решения, исходя не только из формальных критериев, но и из общих представлений об эстетической, политической и социальной значимости рассматриваемых произведений. Представителями литературного сообщества такой подход не мог не рассматриваться как вторжение государственных чиновников не в свое дело – и квалификация того или иного цензора (подчас весьма высокая) в этом деле не играла никакой роли. Цензор из процитированного в начале экскурса стихотворения, берущий на себя привилегию решать, что связано с темой погоды, а что нет, – яркий пример именно такого восприятия чиновника от цензуры глазами литератора. Однако за десять лет до того литераторы воспринимали и фигуру цензора, и перспективу взаимоотношений писателя с государством сквозь призму других категорий – и учитывать настроения этого периода исследователям необходимо хотя бы для того, чтобы понимать, насколько значимы для литераторов 1860‐х годов окажутся утрата иллюзий и разочарование в возможности найти общий язык с высокопоставленными бюрократами.
О проекте
О подписке