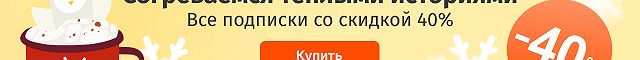
Глава 2
В начале последнего учебного года в учле моя одногруппница, работавшая в хоре Иркутской филармонии, спросила, не хочу ли я пойти к ним в первые сопрано. На тот момент я и сама размышляла о том, на какую бы работу устроиться, чтобы скоротать год в Иркутске и набраться опыта, – в том числе просматривала вакансии в центре занятости. В тот же вечер я пошла в филармонию на прослушивание, и меня взяли. Педагог по вокалу пришла в ярость и заявила, что я бесповоротно испорчу голос, так как сольное пение очень отличается от хорового. Мне было плевать, я хотела работать.
У хористов есть излюбленная поговорка: «Я работаю в хору: все орут, и я ору». Работа была на полставки: пять-шесть вечеров в неделю по два часа. Платили всего десять тысяч, но родители, обрадовавшись моей самостоятельности, продолжили давать мне деньги. В хоре я сразу же заслужила хорошую репутацию. Я никогда не опаздывала, не болтала на репетициях, не указывала соседкам на их ошибки, не спорила с хормейстершей, не отвлекалась и вступала вовремя, по руке. Смотрела только в ноты. Хормейстер была коварная женщина: за улыбкой и кошачьими манерами скрывался безжалостный авторитаризм, и время от времени она рявкала на весь хор в профилактическом порядке. Но меня не ругали, потому что я пела чисто. Вместе с другой девочкой мы тянули все первое сопрано.
Мы исполняли разную хоровую музыку: от кантат Баха до гимна демократической молодежи; от оперных хоров Верди до современных экспериментальных композиторов, в чьей музыке не было даже тональности. Хор пел чаще всего а капелла, но изредка мы давали концерты с оркестром. На моей первой репетиции с ним мы пели «Магнификат» Баха.
В Иркутской филармонии кресла были обиты голубым велюром, а стены – покрашены в голубой цвет. Тяжелые голубые шторы сдерживали яркий уличный свет и звон трамваев. Но порой, когда оркестр играл на piano или делал драматическую паузу, пробивался назойливый звон. И когда я увидела нашего нового дирижера, в моей голове будто прозвучал тот звон, перебивая плавную музыку мыслей. Отныне звон преследовал меня постоянно. Иногда он становился резким, заставляя меня вздрагивать.
Это был высокий человек в клетчатом пиджаке. Непослушные светлые волосы напоминали одуванчик, глаза скрывались за круглыми очками в тонкой золотистой оправе. Дирижер был мне незнаком. Девочка рядом со мной – на подставке, где размещался хор, – шепнула, что он окончил Московскую консерваторию и его недавно пригласил худрук нашей филармонии. Я задержала взгляд на лице дирижера. На вид ему было тридцать – тридцать пять лет. Прозрачная кожа с синеватыми венками, прозрачные зеленые глаза со светлыми ресницами. Внешность слегка портили желтоватые зубы: как и все музыканты оркестра, он, по всей видимости, много курил. Его крупную фигуру было хорошо видно даже из дальних уголков сцены – управляя оркестром, он как бы возвышался над ним. Может, я бы не обратила на него внимания, не будь у него в руках палочки. А может, и обратила бы, да, скорее всего, обратила бы.
Дирижер вдруг строго посмотрел на меня, и мы пересеклись взглядами. Я не отводила глаз от его лица, пытаясь понять, кого он мне напоминает. Лицо было сосредоточено и почти мрачно, когда ему не нравился звук, но, добившись идеального тона, он расцветал. Я наблюдала эти метаморфозы с интересом и легким удивлением.
После репетиции я спустилась со сцены в артистическую и прочитала его имя в списке артистов оркестра, висящем на стене. Нового дирижера звали Влад Б. Имя Влад было значимым для меня: так звали мою первую настоящую любовь. Это было больше, чем звон: меня словно переехал трамвай и отрезал голову. Есть известная пьеса Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”». То, что я почувствовала, было, несомненно, желанием.
Лежа в темноте на кровати, я продолжала думать о том, кого напоминает мне лицо Влада Б. Перебирала в голове варианты, будучи уверенной, что уже где-то встречала его. Я нырнула в сон и оказалась на кладбище возле моего старого дома, где мы когда-то гуляли с Кащеем, Тьмой и другими юными готами. Я шла между могилами и слышала голоса из-под земли. Мертвые ругались, шутили, зубоскалили, как в рассказе Достоевского «Бобок», и совершенно меня не пугали. К тому же во сне кладбище заливал яркий солнечный свет, и оно выглядело очень радостно. Знакомая тропинка вывела меня к могиле молодого красивого бортрадиста – у этого памятника я плакала после ссоры с мамой, когда она узнала, что я больше не девственница. Я пыталась разглядеть лицо на керамическом овале и надпись, но во сне все выглядело размытым.
Сон окунул меня в ностальгию – я очень любила гулять на кладбище в бытность готом, но мы давно переехали в другой район, и теперь я видела его лишь из окна маршрутки. После пробуждения мне захотелось тут же побежать на кладбище и навестить давно забытого друга. Быстро позавтракав и обмотав шею легким шарфом, я побежала вниз по лестнице, словно на зов. Кладбище звало меня, оно меня ждало.
Оказавшись у заржавевших главных ворот, я будто бы лицом к лицу встретилась с тишиной. Казалось, звуки оживленной трассы замолкали, столкнувшись с этими воротами. Входя, я подумала, что кладбище необычайно красиво осенью. Кривые тощие березы напомнили мне рыжих женщин Шиле, замерших в бесстыдных позах. А те березы, что были поизящнее и стояли в ряд, походили на высоких девушек-ангелов с картины Фердинанда Ходлера «Избранный».
Я помнила дорогу. Пройти по главной тропинке до большого дерева на перекрестке, свернуть налево. Если во сне ослепительно светило солнце, то в реальности стоял пасмурный день. В глубине кладбища виднелся высокий крест – я узнала это место. Все было таким же, как много лет назад. Радость ностальгии охватила меня: захотелось прыгать, кружиться и танцевать, несмотря на самое неподходящее место.
Керамический овал с красивым гордым лицом не изменился. У подножия могилы стояли маленькие пыльные лампадки. Эпитафия: «Любимому мужу, отцу и сыну». Ему было ровно тридцать лет. Покойного звали Владислав – как я могла забыть это?
Я смотрю на его пухлые, словно накрашенные помадой, губы, и вижу, как они растягиваются в ответной улыбке, а темный лик светлеет. Так же просветлело лицо Влада Б., когда он добился нужного звучания у хора и оркестра. Бортрадист рад мне.
Я стою в цветочном магазине и выбираю цветы. Вот прекрасные синие гортензии – цветы тоски. Вот хризантемы – самые известные цветы скорби. А вот георгины и крокусы с грустно поникшими бутонами. Но мое внимание привлекают нежные лепестки белых лилий и ярко-фиолетовые ирисы – у тех и других горят золотые сердцевинки. Я составляю букет. Продавщица спрашивает, для кого он. Для мужчины, отвечаю я. Букет получился огромный.
Высвободив цветы из бумаги, я ускоряю шаг. Мне кажется, что я делаю что-то опасное и запретное. Остатки детской веры всколыхиваются во мне, и до меня доходит, что я совершаю грех. Мне очень страшно, что кто-то сейчас застанет меня здесь, молюсь: лишь бы никто не встретился на пути. Но на широком кладбищенском перекрестке мне встречается дед. Он возникает внезапно, словно материализовался из воздуха. Обычный пьяница в засаленном ватнике. Дед нахально косится сперва на меня, затем на букет, подмигивает и говорит надтреснутым голосом:
– Кому цветы несем?
Он хихикает – ехидно и подленько. Я несусь стремглав дальше, еще слыша, как он глумится. Однако, когда оборачиваюсь посмотреть, отстал ли он, не вижу никого. Исчез так же внезапно, как и появился. Он померещился мне или нет? Кажется, я почувствовала, как от него воняло перегаром. Или это был запах чего-то еще – потустороннего, адского, мертвого? Тут меня пронзило: да это же Хозяин кладбища. Мощный дух, коллективная сущность, состоящая из осколков сознания всех погребенных на погосте покойников. Как раз на главном перекрестке людям и встречаются кладбищенские духи – ты же знала об этом еще из детской книги про нечистую силу, дурында! С ними лучше не шутить. Выворачиваю карманы, нахожу пригоршню мелочи. Возвращаюсь к дереву на перекрестке и бросаю под него монетки. Чувствую облегчение. Вокруг, конечно, никого.
Чем ближе я подхожу к заветной могиле, тем чаще бьется сердце.
– Привет, Влад. Это опять я.
В ответ – молчание.
Я кладу цветы на землю, с минуту смотрю на керамический овал и на одном дыхании выпаливаю: «Пришла я на погост, прошу у тебя, покойник, помощи. Лети, разыщи раба Божьего Владислава. Пусть бы он сох по мне, Божьей рабе Нине, как сохнут твои кости в сырой земле. Чтобы видеть меня хотел, чтобы голос мой слышать хотел. Чтобы лик мой у него перед глазами стоял. Да будет так!»
Ухожу, не оборачиваясь. В голове проносится на популярный мотив: «Владислав! Oh, baby don’t hurt me, don’t hurt me, no more»[1]. Да, детка. Give me a sign.
Глава 3
Репетируем «Травиату» Верди с оркестром и солистами в концертном исполнении. Билеты давно раскуплены. Учим партии на коленках в последние дни. Бешеные глаза, трехчасовые репетиции без выходных. Новый дирижер оказался крутого нрава: я уверена, что он сравняет нас со сценой, и будет прав.
У меня нет голоса. Вокалисты шутят: «Архип осип, а Осип – охрип». Наверное, допоюсь до несмыкания связок. Все дни репетиций держится температура тридцать семь, больно разговаривать вслух. Взять концовку «ля соль ля соль ля соль ля-я-я-я» у Верди – просто нечеловеческая пытка. Хормейстерша кричит: нет слова «не могу». Ты, говорит, избалованная и неприспособленная к жизни.
Завтра, в воскресенье, весь день репетиция с оркестром, и я наконец-то увижу Влада Б., но это меня почти не радует. Во вторник в училище экзамен по вокалу, в тот же день меня поставили вести там классный час. Не удивлюсь, если и генеральный прогон оперы будет во вторник. Не осталось ни голоса, ни сил, ни времени. Я пишу заявление об увольнении, чтобы уйти после концерта.
На сцене душно. Разгоряченные музыканты гурьбой идут покурить на улицу. Хористы не курят, они выходят просто подышать. На крыльце курит высокий Влад Б. Я вежливо здороваюсь. Он смотрит мне в глаза, кивает и весело говорит: «Привет». Я в шоке: кладбищенское заклятие сработало, и дирижер обратил внимание на простую хористку, да еще и так дружелюбно обращается. Виду, конечно, не подаю. Я говорю ему, что скоро уволюсь. Он спрашивает, почему. Отвечаю, что пение в хоре мешает моей учебе. Он говорит что-то вроде: «Как же мы без вас, подумайте еще». Улыбается желтоватыми зубами. Он, конечно, смеется надо мной. Это без него оркестр никак не сможет, а я – обычная хористка, крошечный винтик в музыкальной шкатулке. Я говорю что-то вроде «рада была побеседовать», запираюсь в кабинке в туалете и рыдаю.
Весь концерт я смотрю на него, нашего дирижера. Он – путеводная звезда оркестра. Он как гордый белый журавль, а за ним клином летит весь оркестр. Он всегда спокоен, отчужден и строг. Я очень боюсь его расстроить: вступить не вовремя или спеть нечисто. Я даже очки надела, чтобы получше видеть его. Никто не запретит мне любоваться им на сводных репетициях. После концерта я пошла в отдел кадров и порвала свое заявление об увольнении.
В последующие дни я стала замечать, что перестаю узнавать свое отражение. Проходя мимо зеркал, задерживала взгляд: то, что я видела, было не похоже на то, что я привыкла видеть. Однажды пригляделась и поняла, что мои орехово-карие глаза позеленели, а длинные черные ресницы вдруг посветлели. Я смеялась и глядела в зеркало в туалете филармонии, а отражение – исключая мои новые глаза – вдруг начало расплываться. Эти глаза не отпускали, я смотрела в них и продолжала смеяться. Потому что в моих глазах поселился осколок его души. А потом я заметила, что на истончившейся коже проступили голубые венки. И волосы, которые я с осени красила в пшеничный блонд, – такой же, как у Влада Б., – начали виться и торчать, подобно одуванчику. Я становлюсь похожей на него, моего темного возлюбленного, потому что часть его души отныне во мне, мы связаны. Я готовлюсь к свадьбе на том свете.
Церковь, в которой меня крестили, носила имя Ксении Блаженной Петербургской. Муж Ксении, полковник Андрей Федорович, был артистом – придворным певчим. Он умер внезапно, без покаяния. Вдова шла за гробом, но вдруг решила похоронить себя. И сказала: «Это Ксеньюшка умерла, а я, Андрей Федорович, вдовец, один остался!» Она надела мундир покойника и стала называться его именем. Я помнила эту историю с детства.
Ночью мне снова приснилось кладбище. Я бродила по нему кругами, а под ногами гудела земля. Голосов было слишком много, они сливались в гул, становились все громче. Я поняла, что на самом деле не сплю и голоса доносятся не с кладбища, а с моей лестничной клетки. Я подошла к двери и заглянула в глазок. Там никого не было.
На следующей репетиции Влад Б. сам подошел ко мне в холле филармонии и поинтересовался, как дела. Я спросила, кто его любимый композитор, он ответил: «А ты как думаешь?» Я сказала: Шостакович. Но нет, Чайковский. Я возненавидела себя за то, что не угадала. Ведь я могла понять это по его выражению лица, когда оркестр играл шестую симфонию Чайковского, – я сама тогда разрыдалась от невыносимой красоты. Влад Б. ответил: «Мы этого и добивались», потом еще что-то хотел сказать, но тут подлетел его друг валторнист и вклинился в разговор. Я рявкнула на него: «Не мешай». Он не знал, что мы с Владом Б. венчаны в мире мертвых.
О проекте
О подписке
Другие проекты