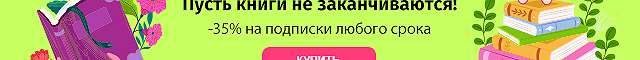
Глава 1
Ви́дѣхом свѣ́тъ и́стинный[1]
Опытное богословие
Русский богослов и ученый-энциклопедист святщ. Павел Флоренский пишет: «Рассказывают, что плавать теперь за границею учатся на приборах, – лежа на полу; точно так же можно стать католиком или протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью, – в кабинете своем. Но чтобы стать православным, надо окунуться разом в самую стихию православия, зажить православно, и нет иного пути»[2]. В том, что только на опытном пути можно понять Православие, о. Павел Флоренский и усматривает его отличие от прочих конфессий. В самой первой фразе своего главного богословского труда «Столп и утверждение истины»[3] он уже называет «живой религиозный опыт» – «единственным законным способом познания догматов»[4].
Отец Павел Флоренский, может быть, и не прав в оценке западных конфессий[5] (но для задач настоящей книги это несущественно), его взгляд можно подвергнуть аргументированной критике. Тем не менее в какой бы мере евангелический или римо-католический богослов ни был убежден, что протестантом или римо-католиком можно стать лишь при условии живого опыта евангелического или католического христианства, все же, согласно о. Павлу Флоренскому, именно в придании такой важности получаемому в Церкви опыту состоит главный отличительный признак Православия.
В этом своем убеждении о. Павел Флоренский не одинок; его взгляды разделяют не только религиозные философы. Так, богослов Владимир Лосский[6] (1903—1958), автор широко известного «Очерка мистического богословия Восточной Церкви»[7], считает апофатизм[8] восточных отцов Церкви экзистенциальной позицией, «при которой человек целиком захвачен: нет богословия вне опыта – нужно меняться, становиться новым человеком. Чтобы познать Бога, нужно к Нему приблизиться; нельзя быть богословом и не идти путем соединения с Богом»[9].
Греческий богослов Христос Яннарас (Χρηστός Γιανναρας[10], род. 1935) считает наличие и учет «опыта» в богословском мышлении едва ли не критерием для его оценки. Он упрекает западное богословие за «изгнание Бога в область, недоступную для опыта», за «отрыв религии от жизни»[11]. Он бросает аналогичные упреки и современным православным богословам. Согласно его точке зрения, богословие в Афинском университете, после основания Богословского факультета, «было строго отделено от церковного, литургического и мистического опыта и духовности, отдано на откуп науке и ее методологии»[12]. В адрес Христоса Андруцоса (Χρηστός Ανδροΰτσος, 1869 —1935), самого значительного представителя «схоластического» направления в греческом богословии, им сказаны следующие слова: «Догматические формулировки не имеют [у него] ни малейшего отношения к опыту святых и к церковному благочестию. Истинность догматики больше не подтверждается опытом, не сопрягается с этикой Церкви и является сугубо идеологической»[13]. Яннарас пишет: «В православии догма выражает опыт Церкви, а не просто теоретические “принципы” »[14]. Поскольку, как он считает, эта точка зрения в современном православном богословии не реализуется, богословие и «следует вернуть к корням церковного опыта, чтобы оно… отказалось от ограниченности истины одними мыслями и идеями». В нынешней ситуации мало пользы, если кто-то «противопоставляет хаосу путаницы и непонимания – пусть даже чисто духовно – только мысли и ощущения. У корней церковного опыта, в аскетической жизни, в богослужении, в таинствах путаница и ошибки опровергаются не диалектически, а практически»[15].
Эти рассуждения Христоса Яннараса ясно показывают, в каком смысле он понимает «опыт». Опыт в его понимании – это не всеобщий, или мистический, опыт постижения Бога, который, по мнению русского религиозного философа Владимира Соловьева (1853—1900), доступен каждому человеку, в том числе и нехристианину[16]. Опыт для Яннараса не есть также и возможность усвоения вероучения благодаря опыту возрождения, как об этом учит Эрлангенская школа «опытного богословия» теологов Адольфа фон Гарлесса (1806—1879) и Ф. X. Р. Франка (1827—1894)[17]. Это также отнюдь не личный опыт веры при обращении, как в пиетизме[18]. Напротив, православный опыт, как его интерпретируют в современном православном богословии – об этом можно судить по приведенным высказываниям Христоса Яннараса, – отсылает к Церкви, богослужению, таинствам, молитве и аскезе и поэтому нередко отождествляется с понятием «церковности». Отец Павел Флоренский указывает на это уже названием своего важнейшего богословского труда – «Столп и утверждение Истины». Именно так в 1 Тим 3:15, как известно, названа Церковь. У о. Павла Флоренского понятия «опыт» и «церковность» почти взаимозаменяемы[19]. И для религиозных мыслителей Владимира Соловьева и Алексея Хомякова (1804—1860) церковный опыт есть высшая ступень и полнота того религиозного опыта, который на более низкой ступени, в качестве всеобщего опыта познания Бога, доступен каждому человеку[20]. На Церковь и богослужение как на посредников опыта указывали в XIX в. прежде всего славянофильски настроенные круги, в частности, архиепископ Харьковский Амвросий (Ключарев; 1820—1901 )[21]. Чтобы стяжать опыт веры, как он сказал в одной из проповедей, христианин «должен провести значительную часть своей жизни в храме. Здесь пробуждается в нем действием благодати внутренний человек, здесь от частого повторения впечатлений из высшего духовного мира развиваются в нем органы, составляющие особые чувства высшей стороны нашей природы, обращенной к миру духовному»[22].
Следует особо подчеркнуть, что в современном православном богословии опыт должен пониматься исключительно как церковный опыт, в этом православное понимание опыта глубоко отлично от понимания пиетистического, с которым оно в другом отношении может и совпадать. Но не только эта подчеркнутая необходимость опыта, а также и отправная точка богословского мышления от конкретно-познаваемого, которую можно обозначить как типично православную, имеет в пиетизме свое соответствие. И все же она специфически отлична, потому что опыт в пиетизме в первую очередь и даже исключительно понимается как личный опыт, а не обязательно как опыт церковный. Если православная мысль в современном православном опытном богословии, в тринитарном богословии отправляется от ипостасей Святой Троицы, то богословское мышление и благочестие протестантского пиетизма исходят из личного отношения к Иисусу как «личному Искупителю». Если аутентичная православная экклезиология покоится на опыте конкретного евхаристического «собрания» (см. гл. 7.2 и 7.3), то пиетистическая мысль исходит из любого сообщества верующих, а не непременно из евхаристического «собрания». Подобных примеров множество.
Несмотря на то что для обеих сторон важно понятие опыта, различия в его понимании настолько велики, что в конце концов возникает сомнение относительно использования термина «опыт». Поскольку в православии подчеркивается церковность опыта, этот опыт обязан, в отличие от субъективного, – опосредованно или непосредственно – подчиняться критерию церковности. Для православных, кроме того, опыт – это продолжающийся процесс роста и созревания, вхождения в жизнь Церкви. В пиетизме же – может быть, только в неопиетизме – напротив, превалирует элемент спонтанности, равно как элемент эмоционального, а следовательно и элемент переживания. Это, по-моему, настолько очевидно, что скорее следовало бы говорить не об опыте, а о переживании.
Обращение православного богословия к опыту имело место в духовно-историческом контексте, когда «опыт» был заново открыт также и вне православного богословия, например, в Эрлангенском богословии (Erlanger Erfahrungstheologie)[23]. Возможно, это открытие опыта в богословии связано с возросшей ролью естественных наук, которые покоятся на принципе эксперимента и, следовательно, опыта[24]. Этот общий контекст в области истории человеческого духа следует непременно учитывать. Тем не менее бросается в глаза, что как суть дела, так и понятие «опыта» в православном богословии укоренены более глубоко, чем в богословии западном, причем это справедливо не только по отношению к естествоиспытателю о. Павлу Флоренскому и основанной им богословской школе[25]. Думается, причина заключается в том, что православное богословие действительно продолжает богословие отцов раннехристианской Церкви.
Впрочем, у восточных отцов Церкви понятие «опыт» практически не встречается. Но их богословие все же является именно «опытным» богословием, так как находится в постоянной связи с таинствами, прежде всего крещения и евхаристии, а также и с другими чинами, часть из которых позднее будет названа «таинствами», и с аскетической жизнью. Оно точно так же находится в постоянной связи с богослужением вообще, с молитвами и славословием. Оно представляет собой, таким образом, единство «образа молитвы» (lex orandi) и «образа веры» (lex credendi)[26].
Это единство учения, богословия и литургического опыта нашло свое отражение в древнецерковных евхаристических молитвах, как они постепенно складывались[27]. Оно особенно отчетливо заметно в истории написания и содержании трактата Василия Великого «О Святом Духе», евхаристической молитвы, названной его именем[28], а также в формировании древнецерковного чина крещения[29]. Это единство обнаруживается и в том, что вопросы богопознания и божественного опыта ставятся и рассматриваются прежде всего в контексте аскетической книжности[30].
В период между VII и IX вв. единство славословия и учения в Восточной Церкви было подчеркнуто еще раз. В это время богослужебный чин кондака – а он восходит к VI в., преимущественно к творчеству Романа Сладкопевца (ск. ок. 560 г.) – был вытеснен жанром канона[31]. Кондаки, конечно, имели догматическую насыщенность, но все же они представляли собой повествовательную поэзию. А в каноне, напротив, превалирует хвалебно-догматическое созерцание, с обильным использованием догматических понятий. Они настолько удачно включены в славословие, что даже такие термины, как «ипостась», «единосущный», «прообраз» и «подобие», оказывается, могут легко распеваться.
Примечательно, что Константинопольский патриарх Иеремия II[32], когда он последовательно отвечал на все статьи Аугсбургского Исповедания веры[33], при рассмотрении ст. XIII, в которой речь идет о таинствах, стал разбирать не седмерицу таинств, как ожидалось, а Божественную литургию и толковать ее. Вот что он счел подобающим откликом на статью Аугсбургского исповедания[34]. Подобный подход был очень точно назван – хотя и не без критики – мышлением «непосредственно вслед за совершением богослужебного чина»[35]. Дефиниции, что именно понимается под сакраментом, не дается, но о нем предлагаются размышления через описание и представление чина его совершения.
В православном богословии, которое испытало на себе влияние западной схоластики, начавшееся преимущественно в XVII в.[36], дела обстоят иначе. В «схоластическом» богословии «дефиниции» уже действительно присутствуют, и не в смысле древнецерковных «оросов» (οροί, букв.: пределы, границы, переносно: определения). В Древней Церкви – так утверждает Христос Яннарас – догматы не были «теоретическими “принципами”, но обозначали границы (οροί, termini)[37] церковного опыта, благодаря которым добытая жизнью истина оберегалась от искажения еретиками»[38]. А в «схоластическом» православном богословии таинства больше не описываются и не отграничиваются от ложных толкований – им даются дефиниции (в современном понимании), т. е. их сводят к формулировкам, позволяющим их усвоить и постичь.
Этот отказ от богословия опыта, от богословия «непосредственно вслед за совершением богослужения», наблюдавшийся в «схоластический» период «псевдоморфозы»[39], резко критикуется в новейших исследованиях истории православного богословия. Я имею в виду прежде всего критические суждения в контексте историко-критического толкования в России Божественной литургии (начиная со второй половины XIX в.)[40], критику «схоластического» учения об искуплении прот. Павлом Светловым (1861 – 1941), патриархом Сергием (Страгородским; 1867—1944), Виктором Несмеловым (1863—1920) и митрополитом Антонием (Храповицким; 1864—1934)[41], высказывания греческого богослова Панайотиса Христу (Παναγιώτης Χρήστου) и митрополита Иоанна (Зизиуласа) (Ιωάννης Ζηζιοΰλας), но прежде всего оценки и суждения великого русского патролога прот. Георгия Флоровского (1893—1979) и Христоса Яннараса[42].
Действительно, современные православные богословы – речь идет о лучших представителях – сами в значительной мере склоняются к чрезвычайно критическим оценкам, и не потому, что они не убеждены в превосходстве «православия как такового», а потому, что фактически православное богословие после падения Константинополя весьма редко соответствовало идеалу учения, ориентированного на литургический и аскетический опыт святых отцов. Богословствование до падения Константинополя в его связи с литургическим и аскетическим опытом является для нынешнего православного богословия одновременно образцом и источником богословской мысли, оно играет для него в известной мере роль канона.
Поскольку православное богословие, в котором русские ученые из века в век играли ведущую роль, на протяжении длительного времени отделяло себя от собственной литургической и аскетической почвы, о. Георгий Флоровский и пришел к резким оценкам православного богословия прошлых веков. Но он совсем не желал подтверждать западные предрассудки! Отец Георгий Флоровский как никто другой понимал, насколько грандиозны еще и поныне не оцененные по достоинству достижения русского богословия XIX и начала XX вв. вплоть до начала революции[43]. И с учетом подобного знания достижений все же мы находим у него следующее суждение:
И так случилось, что с падением Византии богословствовал один только Запад. Богословие есть по существу кафолическая задача, но решалась она только в расколе. Это есть основной парадокс в истории христианской культуры. Запад богословствует, когда Восток молчит – или, что всего хуже, необдуманно и с опозданием повторяет западные зады[44].
Кто хотя бы немного знаком с историей русского богословия понимает излишнюю резкость подобных оценок. Флоровский сам возражал бы, если бы кто-то на Западе, не зная русского богословия, просто повторял их вслед за ним, по сути отказываясь от подлинного изучения восточного богословия. Если бы русское богословие действительно заслуживало столь негативных оценок, то такой выдающийся ученый, как Адольф фон Гарнак, не стал бы изучать русский язык ради того, чтобы прочесть вышедшую в России монографию о Феодорите Кирском[45].
Но старому богословию действительно недоставало собственной, православной постановки вопросов и связи с обширным опытом православия. Да, эта связь была недостаточной, но полностью она не прерывалась. Как бы то ни было, о. Георгий Флоровский в своем критическом изложении «Пути русского богословия» дает высокую оценку двум богословам – чудотворцу и духоносному пастырю св. Иоанну Кронштадтскому (1829 —1908)[46] и св. Филарету Дроздову (1782—1867)[47], митрополиту Московскому, являющему собой наиболее выдающуюся фигуру в российской церковной истории XIX в. Их богословское мышление стоит на почве живого церковного опыта, в этом их своеобразие. У ев. Иоанна Кронштадтского, правда, нет «богословской системы, но есть богословский опыт и о нем свидетельство». У него «вновь открывается забытый путь опытного богопознания»[48]. Полной богословской системы не найти и у митрополита Филарета, но «у него мы найдем нечто большее – единство живого опыта, глубину умного созерцания, “тайные посещения Духа”»[49].
Если, в отличие от св. Филарета, ев. Иоанна Кронштадтского нельзя отнести к богословам-ученым, то в еще большей мере не является ученым св. Серафим Саровский (1759—1833)[50], о котором Флоровский также пишет в своей истории русского богословия и который во многом напоминает ему Симеона Нового Богослова (949—1022)[51], поскольку, по Флоровскому, опыт Серафима «все тот же»[52].
Упоминание таких имен, как при. Серафим и св. Иоанн Кронштадтский, указывает на одну отличительную черту православного богословия. Эта черта просматривается в том, за кем из святых в Православной Церкви закрепилось почетное наименование «Богослова». Его имеют: евангелист Иоанн, Григорий Назианзин (329/30—390/91) и, наконец, Симеон (949—1022), названный Новым Богословом. Евангелисту приложен данный атрибут, поскольку он в Прологе своего Евангелия так изложил суть богочеловечества Божественного Логоса, что его мысли стали для православного богословия решающими в христологических спорах IV—V вв. Второй Богослов – это св. Григорий Назианзин. Он и на Западе признается святым Отцом Церкви. Но обращает на себя внимание, что именно он среди других учителей-богословов своего времени получил почетное имя Богослова, а не, скажем, св. Афанасий Великий, не св. Василий Великий, не св. Кирилл Александрийский, хотя в развитие христианской догматики эти трое внесли больший вклад, чем св. Григорий. На христианском Востоке Григория прославили не столько богословские писания, сколько искусные речи, оказавшие влияние также на православную гимнографию[53]. Но если у св. Григория все же значителен элемент, который мы привычно называем «богословием», так что именование его «Богословом» как-то можно понять, то Симеон Новый Богослов прежде всего является тайновидцем, причем таким, который умел слагать гимны о своем мистическом опыте и выражать его. Но ведь при этом его даже нельзя выделить как особого «богослова мистики», как человека, который размышляет о мистическом опыте. Таковым мы скорее могли бы посчитать св. Григория Паламу (1296—1359).
На примере тех, кто в Православной Церкви получили именование «богословов», можно заметить, что в древнем, «классическом», православном богословии представление об идеальном богослове отличалось от представления, господствовавшего на Западе и отчасти также на Востоке. (Впрочем, и на Западе есть намеки на «классическое» понимание смысла богословия, – иначе как могла бы тайновидица Тереза Авильская получить в Римо-Католической Церкви титул DoctorEcclesiae.)[54]
О проекте
О подписке
Другие проекты