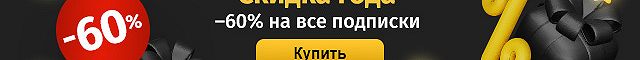
Кают-компания «Моя акватория»
Ирина КАЛУС. Приглашение в Кают-компанию «Моя акватория»
Кают-компания «Моя акватория» обращена к тому поддерживающему любимому пространству, «родной гавани», которое подпитывает наше творчество и придаёт нам силы. А вдруг оно и сформировало вас – и теперь нуждается, чтобы вы это почувствовали, осознали и, в свою очередь, посвятили ему несколько слов?
Это может быть малая родина или другое место – где вы живёте сейчас или жили когда-то, или – где вы хотели бы жить и только выстраиваете контуры такой локации в своём воображении. Предлагаем углубиться в самопознание и вместе порассуждать о незримой связи между «словом» и «местом», между писательским сознанием и пространством, между внешним и внутренним нашим мировосприятием.
Можем вспомнить периоды из жизни А. С. Пушкина, названные исключительно по географическим привязкам: Царскосельский, Петербургский, период Южной ссылки, Михайловский, Московский, Болдинская осень… Кавказ и Восток в творчестве других русских классиков, Замоскворечье в судьбе Ивана Шмелёва, Арбат в жизни Юрия Казакова – продолжать можно бесконечно. Насколько тесно связана траектория писательского пути с реальной биографической траекторией его жизни? Так существует ли наверняка и в чём проявляется эта метафизическая привязка к «составу почвы» или «морской воды», где возрастает свойственный только этому месту (тогда уж и времени) гений – воплощающийся в даре художественного слова? Приглашаем рассказать о «своей акватории» и поделиться своими мыслями на этот счёт. Давайте силами нашего авторского созвездия создадим огромное географическое полотнище общего литературного «паруса».
Игорь ЕЛИСЕЕВ. Питерский сон
Деление поэтов на группы, такие как «санкт-петербургские», «московские» или «алтайские», может иметь последствия. Акцент на географической принадлежности создаёт искусственные границы в поэтической среде, что приводит к недооценке творчества. Читатели и критики воспринимают творчество через призму региональной принадлежности, что сужает понимание произведений, формирует стереотипы. Поэтов из одного уголка России могут начать ассоциировать с определёнными темами, стилями или подходами. Такое деление создаёт ненужную конкуренцию, отвлекает внимание от общего вклада в русскую литературу. Творчество воспринимается как часть коллективного «регионального» явления. Поэты из менее известных или удалённых регионов могут оказаться в менее выгодном положении, их творчество будет восприниматься как менее значимое по сравнению с поэтами из крупных культурных центров.
Важно помнить, что поэзия – это универсальное искусство, которое выходит за рамки географических границ. Деление полезно для изучения локальных культурных особенностей, но оно не должно становиться одним из основных критериев оценки творчества. Русские поэты, независимо от их происхождения, вносят вклад в общерусскую и мировую литературу, и их творчество заслуживает рассмотрения в более широком контексте.
У творческого человека, как правило, есть некое сокровенное, сакральное пространство, пусть даже внутреннее, где рождаются произведения. Это можно назвать «родной гаванью», «акваторией», «дерновой скамьёй».
Одно из моих пространств находится по адресу: Кузнечный переулок, восемь («Булочная Ф. Волчека»). Люблю прийти сюда перед открытием, подождать несколько минут. Смотреть в освещенную витрину, как суетится продавец, готовясь к открытию. В булочной тепло, запах свежей выпечки, такой утренний хлебный туман. Беру кофе с молоком и обязательно лимонную корзиночку, усаживаюсь на высокий барный стул, как правило, очень неловко, со скрипом и страхом, что он развалится подо мной. А напротив – Достоевского, два дробь пять. Литературно-мемориальный музей Фёдора Михайловича. Он писал «Братьев Карамазовых», когда жил здесь. Ни души. Я один.
Выяснилось, что у меня есть стихотворение о моём «месте силы». Вот оно.
Питерский сон
Бываю часто в Питере,
Десяток раз на дню.
И где-то между строчками
Почти его люблю.
Фасадов неухоженных,
Парадных пустоту.
И в Вольчеке пироженном
Корзиночку куплю.
А Шайка вместе с Лейкою
Побалует пивком,
Где ямщики заезжие
Басили с Ильичём.
О, Достоевский выскочил
С Анюткой из ворот!
Свечной нырнул в Московскую,
Потом наоборот.
У храма на Владимирской
На паперти народ.
Звон колокольным выстрелом
Обрадует господ.
На куполах червонное
Прищурит, словно сплю.
И где-то между встречами
Опять его люблю.
Ну и МОРЕ… (любое).
Георгий КУЛИШКИН. Воспитание
Рассказ
Наш с Анечкой низенький детский столик одной стороной своей поверхности касается стены, другой – обшивки рабочего кухонного стола. У двух оставшихся сторон на светлых деревянных стульчиках сидим мы. В тарелках перед нами – остывающий зелёный борщ, приготовленный по всем правилам кулинарной науки. Мелко-мелко искрошенное яйцо и ложка сметаны держатся островками в центре тарелок. Не перемешивая содержимого, мы с кислыми рожицами нацеживаем в ложки жижицы у края, глотаем, пересиливая себя. Маме невмочь присутствовать при этом представлении, повторяющемся три раза на день. Рано утром она бегала на рынок – выбрать кусочек нежирной молодой свининки, наилучше подходящей для готовки кислых щей, и пучок свежайщего щавеля, и… Нет, она не выдерживает. Всякий раз мы являемся к столу как приговорённые на казнь. Худющие, кожа да кости, бледные, как поганки, мы напрочь лишены аппетита, и то, что всё-таки съедаем, заталкивается в нас под долгие уговоры, посулы и запугивания. Мы тянем время. Мы знаем, что вот-вот у мамы лопнет терпение, и она в отчаянии удалится, крикнув, что пока всё до капельки не будет съедено, мы не выйдем из-за стола. Тогда, пользуясь минутой, мы вылавливаем из тарелок мясо и, стремясь метнуть подальше, швыряем его в узкий просвет между стенкой и тумбой рабочего стола. Управившись, лениво помешиваем постылые порции, кривясь, касаемся ртами пустых ложек. В соперничестве – кто кого пересидит – в конце концов сдаётся мама. Мы ждём, ждём и дожидаемся, когда она врывается со словами:
– Так, съешьте мясо и можете выметаться!
– Мы уже! – отвечаем в один голос и с одинаковой претензией обвиняемых понапрасну.
Мама исследует содержимое тарелок и, утешившись, что хоть мясо-то съедено, машет рукой, даруя нам счастье быть вольными.
Ничуть не предполагая скорого разоблачения, мы пользуемся изобретённой уловкой от присеста к присесту, пока в кухне не появляется запах издохшей под досками пола крысы.
К выходному, когда вонь становится нестерпимой и когда под рукой оказываются физические возможности отца, громоздкий полусервант, заполненный по внутренним полкам фаянсовой, что попроще, посудой и всяческой кухонной утварью, сдвигается в сторону от стены…
Мама всё понимает мгновенно. Отцу, чтобы взять в толк, требуется какое-то время.
Что он понял, мы узнаём по взгляду, брошенному им на маму. Он глянул вдруг так, словно она ударила его.
– Это… – страшно переменившись в лице, произносит он, не зная, что сказать. – Ты! – выкрикивает маме с ненавистью. – Ты!..
Он задыхается, дрожащим всхлипом рвёт в себя воздух.
Мама пятится в испуге, но руки выбрасывает к нему – готовая спасать.
Взглядом и рывком головы отринув её жест, он кричит:
– Ты понимаешь – кого… Мы!..
Ей не до расшифровок его мысли, она тянется остановить страшное.
– Мы! Барчуков! Сволочей! – кричит он, чуть не плача.
– Вы! – поворачивается к нам с Аней. – У-у!..
Закаменевшие от испуга и чувства ужасающей, хотя ещё и не осмысленной по-настоящему вины, мы стоим навытяжку. С руками, всё так же протянутыми к нему, мама смещается, заслоняя нас.
Приняв её как что-то такое, подступать к чему у него нет права, отец – из-за её рук с раскинутыми в стороны пальцами, из-за её плеча:
– Вы!.. Там с вами бегают во дворе… Они многие этого мяса… Неделями такусенького кусочка не видят!
– Да знаю я, знаю, – обращаясь к маме, говорит он упавшим вдруг голосом – убито и без всякой надежды. – Знаю, что всё это как об стенку горохом!
Мама подступает к нему, но тронуть не смеет. Он медленно и тяжело опускает лицо.
– Как всё-таки правильно, что скоро меня не станет, – говорит, словно уже себе самому – с согласием, что да, правильно, но без восклицания, а с какой-то не смирившейся ещё с этим его знанием заторможенностью. – Тогда они сами… Собственной шкурой… – заканчивает, и желая, и не желая нам того, что будет.
Николай СМИРНОВ. Прииск
Первое моё сочинение в прозе повесть «Василий Нос и Баба Яга» навеяно Колымой. Известный русский философ и богослов С.Н. Булгаков, вспоминая в эмиграции своё детство, пишет, что с землёй, где мы родились, мы связаны как бы пуповиной, это место имеет влияние потом на всю нашу жизнь.
Я родился в Ярославской области в деревне Коровино на Волге, но долгое время представление о родине у меня как бы раздваивалось, потому что, с девяти месяцев, то есть ещё во младенчестве – я оказался на Колыме, в Оймяконском районе Якутской АССР, на прииске имени Покрышкина, затем получившем название якутское – посёлок Нелькан.
Прииск был в болотистой долине: с одной стороны синели вдали скалистые сопки со снежными пиками, с другой, за рекой Тарыном, высились, заслоняя небо, зеленея стлаником и смородиной – ближние, плавно крутые сопки, на вершине одной мы, дети, не раз бывали. Лето короткое, но жаркое, благодатное с ягодами и грибами, с речками рыбными; и сверху, с низких северных небес, скатываясь по сопкам, шёл не молкнущий, приглушённый шум этих речек, будто его источала сама вечность над бедными разнокалиберными домиками, отвалами промытой породы, старыми шахтами, и полем костей человеческих огромного кладбища заключённых. А вот чёрная колонна живых ЗКа потянулась в лагерь – на обед; по бокам её автоматчики.
Этот мир в детстве мне казался страшным и загадочным, как в русских сказках Афанасьева, которые я тогда читал. Обо всем этом я написал в своих книгах: «Повести и рассказы», «На поле Романове», «Сватовство» и других.
Я понемногу жил в разных местах: учился в Москве, работал в Ярославле и под Воркутой на буровой вышке, но большая часть жизни связана с маленьким городом Мышкиным, куда наша семья возвратилась с Севера в 1962 году. (Я и на свет появился в родильном доме Мышкина).
Встреча с ним в детстве дала мне очень много. Здесь я впервые увидел церковь, где меня, кстати, причащали первый раз в жизни, увидел иконы. У тётки моей, Шуры, их было много, её знакомые старушки учили меня молиться, они хорошо помнили дореволюционную Россию, рассказывали разные чудесные истории из своего детства, мне тогда не было и шести лет. Помню, как я боялся оставаться в доме наедине с иконой Николая Чудотворца, столько наслушался рассказов о нём. Убежал к тётке в огород. Она засмеялась, услышав, что я боюсь Святого Николая.
Этот детский мир как-то слился у меня воедино с миром таёжного золотого прииска, и рассказами о его прошлом – на этой основе родилась повесть «Василий Нос и Баба Яга».
Позднее я стал прислушиваться к народному языку, к необычным для меня оборотам и словам. Сейчас я удивляюсь, как много в нём сияло заимствований из псалмов и богослужебных книг. «Потонули в грехах», «спутал по рукам и ногам». «…Кислеть и горечь во рту» – я нашёл в древнерусском словаре в цитате о распятии Христа. Одна старушка, упоминая о прижитом вне брака ребёнке, говорила: «Добыла себе ребёночка». Много лет спустя я нашёл этот оборот в «Русской правде» Ярослава, то есть он из двенадцатого века. По памяти цитирую: «Если девка добудет себе дитя, то родители не наказывали бы её сурово»…
И похожих словесных примеров можно привести немало.
Андрей СТРОКОВ. Мой адрес – море
«А лисички взяли спички, к Морю синему пошли, Море синее зажгли»; «Почернело синее Море»; «Над седой равниной Моря ветер тучи собирает»; «Белеет парус одинокий в тумане Моря голубом» – с этими строчками началась когда-то моя читательская жизнь. А потом ключевое слово «Море» стало триггером рождения моей жизни писательской. Поэтому предложение «Паруса» принять участие в коллективном изыскании об истоках творчества и внешних условиях, на творчество влияющих, встретил с энтузиазмом.
Когда-то давно, наш далёкий пращур выполз из первобытного Моря, волоча по гальке, ещё не ставшей песком, свой чешуйчатый хвост и отбросил всё, как тогда ему казалось, ненужное: жабры, перепонки, плавники, а потом и сам хвост. Но память о своей колыбели сохранил, как и веру, что однажды туда вернётся. Поэтому любовь к Морю живёт во всех нас, даже в тех, кто Моря с рождения не видел.
Однажды я, насквозь сухопутный парнишка, рождённый в Казахстане и выросший в Средней полосе России, внезапно и не по своей воле оказался не просто на море, а в ходовой рубке ракетного крейсера – и всё, мина заложена, обратный отсчёт включился. Не прошло после того и каких-то сорока лет, как в результате персонального Большого творческого взрыва родилась моя литературная вселенная. Вот и ответ на поставленный «Парусом» вопрос: как меняет внешняя среда творческое развитие писателя. В моём случае, эта среда – Море, полностью изменила мою жизнь и сформировала творческую судьбу. Нет, никогда не стал бы я писателем
Если б не сжимал зубами ленты
С контуром старинных якорей,
Если б не сдували меня ветры,
Злющие, из северных морей.
Вот вам типичная «лысенковщина» (изменённые условия внешней среды могут изменять процесс построения организма), антинаучная в биологии, но отлично работающая в литературе. Благодаря тому солёному Морю, я теперь могу отрастить творческие жабры, перепонки, плавники и хвост, чтоб чувствовать себя в Море литературном, как дома. И не без помощи «Паруса» и всех причастных к журналу, а особенно – читателей.
Сотворение легенды
Наталья ЖИРОМСКАЯ. Аистёнок
Рассказ
Настойчивый стук в окно разбудил бабу Варю. Тяжело поднявшись, растирая затёкшие больные ноги, она подошла к окну. Серая дымка тумана расстилалась над речкой, как будто невиданная диковинная птица распластала свои огромные крылья. Но никого не было видно. Баба Варя уже собралась отойти от окна, как новый стук привлёк её внимание. Вглядываясь в запотевшее стекло, она увидела аиста. Он подпрыгивал и бился клювом в окно.
– Что-то случилось, – подумала баба Варя.
Семья аистов уже пять лет прилетала в их тихую опустевшую деревню. Рядом с домом бабы Вари располагалась старая водокачка, на ней аисты и свили гнездо. Бабе Варе сразу полюбились её соседи. Как красивы были эти белые аисты с чёрными кончиками крыльев и изящной длинной шеей! А их трогательная забота о птенцах умиляла бабу Варю. Она с удовольствием наблюдала, как птенцы подрастают и вылетают из гнезда. Сначала в сопровождении родителей, потом самостоятельно. Баба Варя любовалась их красивым парением. Она подкармливала аистов. Работая в огороде, выкапывала червей из земли и складывала в тазик. Порой и маленьких лягушат туда подбрасывала. Лягушек в их болотистом краю было немерено, с середины лета приходилось засыпать под их несмолкаемое кваканье.
Так что же теперь случилось у аистов? Баба Варя поспешила к гнезду. Аисты тревожно кружили над водонапорной башней. Подойдя ближе, она увидела в высоких зарослях крапивы аистёнка. Он лежал как-то боком, крыло было вывернуто. Явно сломано. Грустные испуганные глаза аистёнка смотрели на неё. Он был жив, высокая трава смягчила падение. Как же он выпал из гнезда? Наверное, малыш впервые пытался взлететь. Баба Варя стала пробираться к аистёнку. Жгучая крапива хлестала её по ногам и рукам. Аккуратно подняв и прижав к себе птенца, она вынесла его из зарослей. Аистёнок прикрыл глаза, успокоился и доверился этим добрым рукам.
Баба Варя кем только не работала до войны, в том числе пару лет – ветеринаром в колхозе. Этот опыт не раз пригождался ей в тяжёлые годы войны и трудное послевоенное время.
В хате баба Варя первым делом осторожно выправила крыло аистёнка, плотно примотав его к тельцу. Потом смазала ссадины зелёнкой, надёжной спасительницей от инфекций.
О проекте
О подписке
Другие проекты
