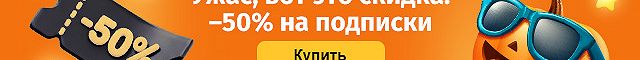
Дело было в том, что класса после третьего, летом, с территории пионерлагеря я видел, как в деревне за речкой, примерно в километре от нас, горело несколько старых домов. Все ребята высыпали тогда на берег. Я до сих пор помню черный дым пожара, долетавший до нас пепел и свой страх, что огонь перекинется на наши корпуса, хотя из-за реки это вряд ли могло случиться. В деревню приехали пожарные, и наш директор, сторож и воспитатели – два студента пединститута тоже побежали на место происшествия, перебравшись через речушку вброд и оставив нас на девчонок-вожатых и повариху. Потом мы узнали, что все дома сгорели дотла, и люди остались без крова. Этот пожар произвел на меня очень сильное впечатление. Еще в течение нескольких лет мне снилось одно и то же: что я возвращаюсь домой из лагеря, а дома нашего нет. И когда я просыпался и понимал, что это только сон, а у меня все в порядке и рядом есть и мама и бабушка, я чувствовал себя уж если не счастливым, то, по крайней мере, спокойным.
Я не заметил, как выпил кофе. В огромной кастрюле, прикрытой марлей, из кухни вынесли первую партию пирожков. Я подумал, не съесть ли пирог, но мужественно от этой мысли отказался. Надо было возвращаться в зал.
Я отнес свою чашку, до последнего оттягивая этот миг, когда снова придется посмотреть Нине в глаза, и медленно все-таки пошел. В зале было все как всегда. Уже довольно много людей сидели за столами и работали. Я прошел к Нининому столику и вдруг понял, что Нины нет. А на ее месте сидит седая и очень пожилая библиотекарша из абонемента, которую я тоже хорошо знал.
Она повернула ко мне голову, подняла высоко на лоб очки, и в улыбке узнавания возле ее глаз и рта сложились запеченные временем складочки:
– Вадичка! Что-то не заходили к нам целое лето! Наверное, уезжали куда-нибудь? Тут Нина Антоновна приготовила для вас книги, просила передать. Идите за стол, я вам принесу.
– А где она сама?
– Отпросилась домой. Давление сильно поднялось, сердце закололо. Заведующая ее отпустила. Ниночка-то ведь у нас даже отпуск редко когда брала, грех ее не отпустить.
– Давайте я сам возьму книги. Они ведь тяжелые.
– Ничего-ничего, я прикачу в коляске. Ниночка уж столько вам набрала…
Мелкие седые кудряшки задрожали, щуплая фигурка в синем рабочем халате вылезла из-за стола, и крошечные кривые ножки в толстых чулках и аккуратных старых коричневых туфлях быстро засеменили к стеллажам, к красной пластмассовой корзине на колесиках. Я шел за Валентиной Петровной и размышлял, правда ли у Нины поднялось давление, или она ушла потому, что не хотела меня видеть.
– Так вы, Вадичка, уезжали куда-нибудь?
– Нет, Валентина Петровна, дел было много. Но вот как понадобилась справочная литература – так сразу к вам.
– У-у-у! – Она уже ловко подкатывала к свободному столу корзину, – тут вам смотреть не пересмотреть.
Я стал помогать выкладывать книги. Подборка была действительно обширная. Часть книг не поместилась, и я попросил оставить ее в корзине.
– У вас ведь несколько корзин? – Я не хотел, чтобы из-за меня библиотекарь таскала на руках тяжести другим посетителям.
– Ради вас – найдем.
Я улучил момент и галантно поцеловал ее сухую, шершавую руку. Одновременно с этим аккуратненько вложил в карманчик ее рабочего халата свернутую купюру. Не бог весть какого она была достоинства, но Валентине Петровне, я знал, уж точно не помешала бы.
– Ну, что вы, Вадичка, что вы! – Она зарделась от этого моего жеста и оглянулась – не видел ли кто. И вдруг, по-молодому повернувшись на своих маленьких кривых ножках, как-то подпрыгнула и убежала к себе в книжные закрома. А я занял место у окна и раскрыл первую книгу.
Композитор, что написал оперу, был по происхождению итальянец, но родился уже в Америке. Когда мне сделали предложение о постановке, сказали так: «Будем укреплять культурные связи. Он – молодой композитор, вы – молодой постановщик, и все исполнители тоже должны быть не старше двадцати пяти лет. Это окажется самая молодая постановка в мире! Вполне можно будет претендовать на то, чтобы ее занесли в Красную книгу».
«В Книгу Гиннесса?» – хотел переспросить я, но не сделал этого. Ясно, что человек, сделавший мне предложение, перепутал. А я пребывал в полном восторге от того, что для постановки выбрали именно меня. Я вовсе не хотел, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что мне не хочется работать. Мне на самом деле очень хотелось. Еще когда я учился в школе, бабушка и мама смеялись над каким-то политическим деятелем, который громогласно заявил, что ему «чертовски хочется поработать!». Теперь я понимаю, естественно, что дело, видимо, было в контексте, но тогда мне эти слова вовсе не казались смешными. Мне всегда хотелось сделать что-то особенное, удивительное, придумать что-нибудь, чтобы все меня похвалили, и в школе чтобы учителя изумлялись, как мне могло такое прийти в голову, а все наши ребята меня бы за это вдруг разом зауважали. Я еще тогда даже не представлял, кем мне хочется стать, но думал, что моя профессия обязательно должна быть связана с чем-то необычным, чем занимаются не все.
Я посмотрел на часы. Боже мой, уже четверть одиннадцатого!
Сценическую площадку мне дали для спектакля такую, что я даже не ожидал. Как говорилось в одном старом фильме, «дай бог каждому». Акустика тоже была вполне приличной. Единственный недостаток, что и оркестр, и солистов, и массовку – всех требовалось разместить на сцене. В театре не было оркестровой ямы, но это и не могло сильно испортить мои планы. Я уже решил, что оркестр соберу небольшой, и все, включая музыкантов, окажутся объединены одной концептуальной идеей. Оркестр у меня должен был быть военным. Он появляется на сцене на вращающемся круге. В начале первого действия музыканты разодеты по старой моде благородных южан, они играют мазурки и марши, они еще не чувствуют близость конца, и только протяжная песня одинокого африканца с плантаций звучит предвестником будущих страшных перемен. В середине спектакля – в последний бой под музыку уходит уже другая армия – печальная и готовая умереть, но не сдаться. Эти люди одеты уже в другое платье. Их форма изодрана в боях, а у многих вообще нет никакой формы. Но все-таки это еще армия, и я готов продемонстрировать это картиной. Люди стоят и сидят тесными ровными рядами, плечом к плечу. Звуки инструментов перекликаются друг с другом, как будто здоровые хотят поддержать раненых, а те, кто выжил, – утешить вдов павших. А вот ближе к концу спектакля вместо военного оркестра на круге появляются совсем уже другие люди – они идут не рядами, а маленькими группами или поодиночке. Они одеты по-дорожному и, кроме инструментов, волокут за собой чемоданы и саквояжи. Потом вслед за первыми выходят другие – в новеньких и нарядных, только что сшитых по последней моде одеяниях. Теперь звучит совсем другая музыка, символизируя приход нового времени, а появившиеся в оркестре чернокожие музыканты уже открыто играют джаз. И, наконец, возникает новый, все подавляющий танец. Это вальс. Он кружит людей в вихре нового времени, он морочит головы и заставляет по-другому смотреть на вещи. И под его звуки уже становится непонятным, на чьей стороне правда, в чем поражение, где победа. И только старый негр с его прежней унылой песней может служить печальным воспоминанием о тех, кто еще помнит. Вот такую музыку написал этот молодой итальянский американец, и я просто дьяволу готов душу отдать, чтобы мне со своей стороны не ударить в грязь лицом.
Я вспомнил лицо нашего художника по костюмам.
– Я предлагаю, чтобы актриса, поющая Скарлетт, во втором действии была в мужском костюме.
– Это когда она сама работает на плантации? – спросил я.
– Нет, то есть с плантации можно начать, хотя на плантации она может работать в платье, в каком ходят негры. Что-нибудь красное с широкой юбкой. А вот когда она уже заводит лесопилку, тут у нее должен быть уже совершенно мужской костюм.
– Смокинг или пиджак? – поинтересовался я.
– Это все равно. Хоть фрак. Не принципиально. Я лично рекомендую спортивный костюм и красно-белый шарф с надписью «Спартак».
– И что бы это значило? – Я постарался скрыть свою неприязнь. Мужской костюм – жилетка, шейный платок, рубашка со сменным воротничком – еще куда ни шло. В конце концов, если Скарлетт получает удовольствие от мужских занятий, с этим еще можно согласиться, но «Спартак»…
– А вместо свистка на грудь ей привесить символический фаллос в белом презервативе.
– С какого же это перепугу? – не выдержал я.
– А с такого, что если нам нужен скандал, то простым фраком его не добьешься.
– Нам нужен успех, а не скандал.
– Это одно и то же. Намек на оппозицию не может нам повредить.
В его усмешке сквозило столько презрения! Как ему было скучно объяснять мне, случайно попавшему в богемные круги провинциалу, такие охренительно простые вещи.
Он сидел, закинув с каким-то очередным странным вывертом одну ногу на другую, и смотрел не на меня, а в окно, разлепив смуглые веки только наполовину.
– Браво! – сказал я. – Шарф «Спартака» и член в презервативе – это замечательный намек на оппозицию. Зае… сь! Как раз то, что обеспечит успех всей постановке. Ни голоса исполнителей, ни звучание инструментов, ни сама музыка, в конце концов, а только «Спартак» и презерватив.
Он пожал плечами с таким видом, будто считает бесполезным вступать в дискуссии со столь тупым человеком, как я. В дискуссии вступать не будет, а вот в ЖЖ распишет меня во всей моей тупоголовой красе. Закрываю путь к славе молодому гениальному художнику.
Вздохнув, я вытащил с самого дна корзины толстый том «Мода и стиль». Должно же тут быть что-то и про Америку. Я начал листать с конца – глупая привычка. ХХ век. Прочь скучные девяностые, несуразные восьмидесятые… Это все было в моей жизни. Дальше назад – интереснее. Мамина молодость – семидесятые. Еще глубже – мини-бикини – «Бриллиантовая рука». Первые узкие брючки – конечно, француженки. Жанна Моро, Катрин Денев. Дальше пятидесятые. Вот и Америка – Кэтрин Хепберн. Сороковые, тридцатые – Марлен Дитрих. Двадцатые – Шанель. Первая мировая и до нее – совместные прогулки мужчин и дам на велосипедах. В глазах монокли, папиросы в длинных мундштуках. Европа была более продвинутой, чем Америка. Похоже, Скарлетт О’Хара ни до, ни после гражданской войны не могла носить мужской костюм. И в этом смысле спартаковский шарф будет выглядеть на сцене правильнее. Уж если он символ – то получается более реальный, чем просто брюки и пиджак. И что же, я должен согласиться с этим типом?
Опять телефон. Я и забыл, что Алла молчит уже довольно долго.
– Что, Алла?
– Ты в самом деле приедешь только на репетицию? Но мне так нужно с тобой поговорить. Борис сегодня обещал принести эскизы костюмов…
– Как раз это я сейчас и изучаю. Алла, пойди перекуси где-нибудь без меня. Я правда занят.
– Но, может, мы хотя бы вечером пообедаем? У меня сегодня один из немногих свободных вечеров…
– Я перезвоню.
Я отключился и тут же набрал номер телефона Нины.
– Вы… Как самочувствие? – Я пока не понимал, как мне удобнее к ней обращаться.
Голос у Нины был нисколько не больной.
– Я сейчас на рынке, – сказала она. – Хочу соорудить тебе к вечеру потрясающий ужин.
– Но… – Этого я уж никак не ожидал. – А как же давление?
Она засмеялась.
– Я знаю, что непорядочно обманывать начальство и коллег, но сегодня воспользовалась этим в первый раз в жизни. Хочу тебя угостить. Ты ведь никогда не был у меня дома, хотя я тебя однажды приглашала. Ты, по-моему, тогда испугался. – Она опять засмеялась. – Но ты этого, конечно, не помнишь. Ты был тогда маленьким.
Я помнил. Это действительно было давно, курсе на третьем.
У Нины всегда было немного иронически-удивленное выражение лица, как будто она всю жизнь не переставала поражаться, что находятся еще, как она говорит, «полезные ископаемые», способные читать книги. Ископаемые – это понятно, говорила она, только неизвестно – действительно ли полезные? Меня она тоже относила к «полезным». Она вообще всему придавала свою индивидуальную окраску. Казалось бы, вся ее функция как работника – найти и принести нужную книгу. Ан нет, выдавая том, одним взглядом или ухмылкой, или каким-нибудь простым замечанием она давала понять, как относится к данной литературе. Знания у нее самой были энциклопедические. Раньше она значила для меня больше, чем Википедия сейчас, потому что студентом я только впитывал факты, а осмыслить их еще не мог. Для осмысливания нужен опыт, которого у меня, восемнадцатилетнего, еще не имелось. А Нина могла иногда с помощью одного вопроса или даже взгляда заставить меня задуматься. И еще она была тогда единственным человеком, который меня в Москве почему-то жалел. Я это чувствовал, и мне это совершенно не нравилось, и даже было как-то стыдно. В ее отношении ко мне чувствовалось уважительное снисхождение человека к муравью – за то, что муравей – маленький трудяга – все тащит и тащит свою ношу. Иногда в ее взгляде я читал сожаление. А о чем она сожалела, мне было непонятно.
Когда я учился на третьем курсе, Нина по моей просьбе стала подбирать мне материал для рефератов. Я приносил ей всякие мелочи – шоколадки, конфетки. Когда я приходил, в книгах лежали аккуратные закладочки – всегда то, что нужно. Несколько раз она приглашала меня в свой угол – в тот же самый, за стеллажами с книгами, и угощала пирожками из буфета. Там я узнал, что у нее есть дочь, девочка лет четырнадцати. Про мужа Нина Антоновна мне ничего не рассказывала, а про девочку сказала так:
– Хрюша порядочная. Надеюсь, что это пока. Если такой останется – можно спокойно повеситься.
Почему-то в те дни у меня возникло впечатление, что она пригласила меня домой познакомить с этой девочкой. Я не пришел. Интересно, помнит ли Нина, как, вскоре после этого разговора, я затащил ее между стеллажами в том же самом тесном и темном углу библиотечного зала и там неистово обнимал. Наверное, она это помнит. От ее мягкой шеи пахло какими-то духами. Мы целовались молча, и мне запомнилось, как она закидывала голову и стукалась затылком о толстые фолианты. После этого случая я перестал ходить в библиотеку, а вскоре купил свой первый ноутбук. Стал скачивать из Интернета все подряд и не испытывал потребности в чьих-либо замечаниях.
Но года два назад, после того как с успехом осуществилась моя первая постановка, я снова зашел сюда – просто так, скорее даже из любопытства, чем по необходимости. О премьере тогда написали рецензии в трех-четырех газетах, а я знал, что Нина Антоновна следит за «достижениями культуры». Вполне могло оказаться, что она уже и не работает в библиотеке, но когда я вошел в читальный зал, вдруг с непонятной мне самому радостью скорее угадал, чем увидел ее старую синюю кофту за стеллажами. И Нина, как мне показалось, тоже обрадовалась мне и удивилась. И с дочкой ее, кстати говоря, все образовалось. Дочка уехала к своему отцу. Я снова стал ходить в библиотеку и довольно неожиданно для себя с этого года стал в лицо называть Нину Антоновну Ниной.
– Записывай адрес, – сказала мне Нина. – Здесь недалеко. Обед будет обалденный.
– Я освобожусь только вечером. Пригласи меня на ужин.
– Я уже пригласила. Буду тебя ждать. – Я услышал гудки в своем айфоне, положил его рядом с собой и снова стал листать книгу, но ненадолго.
– Ты обещал перезвонить, – тут же по телефону напомнила мне Алла.
– Встретимся на репетиции. К сожалению, у меня не получится ни пообедать, ни поужинать.
– Очень жаль. – Голос у нее сейчас был точно как у Вишневской. Очевидно, Алла вспомнила, что она – будущая звезда.
– Борис собирается одеть меня в рубище, – заявила она трагически после недолгого молчания.
– В каком это смысле?
– В прямом. Домотканая рубаха, подпоясанная веревкой.
– Откуда ты знаешь?
– А я с ним завтракала. Он меня пригласил.
– Вот как?
– Вадик, он хотел узнать мое мнение о концепции постановки. Именно так он выразился. Я совершенно уверена, что Борис под тебя копает. Я думаю, он разговаривал и с другими. – Голос у Аллы смягчился и стал похож на голос заботливой мамаши, разоваривающей с непослушным сынишкой. Не исключено, что именно таким общалась Вишневская с Ростроповичем.
– Ну, разговаривал и разговаривал. – Я почувствовал ужасное раздражение. – Что ты думаешь, всем нравятся его безумные идеи?
– Что ты называешь безумными идеями?
– То, например, что Скарлетт придется таскать на груди презерватив.
– Если она с этим презервативом поедет в Америку, очень даже понравится.
– Не обольщайся, дорогая. Америка – страна консервативная, никто вас с этими презервативами туда не возьмет. В лучшем случае отправитесь куда-нибудь в Жмеринку. Я сейчас смотрю историю брючного костюма – в Америке в приличные рестораны женщин в брюках стали пускать только в девяностые годы. Двадцатого, между прочим, века.
– Вадик! Для чего тебе история брючного костюма? – теперь Алла ворковала не хуже ее рингтонной арфы.
– А это секрет. Узнаешь на репетиции.
– Вадик, имей в виду, мне не идут брючные костюмы.
– Не беспокойся. В крайнем случае мы примерим рубище.
– Фу! Противный!
Я закрыл «Моду и стиль» и взял со стола очередной том.
– Вадик, как работается? Как мама? – спросила проходившая мимо Валентина Петровна. Мне захотелось кинуть в нее книгой.
– Все в порядке.
– Я думаю, вы замечательный сын.
– Надеюсь.
Этим летом я впервые в жизни не приехал в наш городок к маме даже на неделю.
– Как мне, Вадичка, приятно слышать, что вы не забываете вашу маму! А уж ей-то от вас, представляю, какая радость!
– Спасибо вам, Валентина Петровна.
Она вдруг растроганно клюнула меня в плечо и быстро отошла к своему столику. Я мысленно чертыхнулся и потер себе лоб.
Мама в детстве звала меня – «березовый мальчик». Потому что, как она говорила, у меня было редкое сочетание – волосы очень белые, а ресницы и брови темные, как на березовой коре горизонтальные черточки. Она называла меня «красавчик», а я своей красоты нисколько не ощущал, только чувствовал, что я не совсем такой, как все. Или, вернее, вел себя не так, как все. А потом в середине школы волосы у меня потемнели, и я вообще уже никакой оригинальностью во внешности не отличался. Правда, я единственный не только во дворе, но и во всем нашем классе, и во всей школе умел вполне прилично играть сразу на трех музыкальных инструментах – на скрипке, на фортепиано и на аккордеоне.
– Конечно, у него же мама в музыкалке работает, – презрительно пожимали плечами мальчишки.
Мама… Именно она тогда спасла меня от исключения из института и от армии, в которой со мной бы непременно что-нибудь случилось. Моя мама, скромная труженица, никогда при мне ни у кого ничего не просившая, с плачем тогда встала передо мной на колени, умоляя вернуться на занятия в институт. Встала не в переносном, а в буквальном смысле, чем меня сразила. Я дал ей тогда честное слово и даже поклялся, что не просто так поеду в Москву для того, чтобы ее обмануть, а самому болтаться черт знает где, вместо того чтобы учиться, а что действительно переступлю через свое самолюбие, разочарование и обиду и вернусь в институт. И буду там именно учиться, а не валять дурака. И что я также вернусь в общежитие, как бы трудно мне ни было там находиться вместе с Лехой.
– Потому что, – устало сказала мама, вставая с колен, – жизнь – это жизнь, и в ней трудности встречаются чаще, чем удачи.
И еще это нужно было потому, что деньги на еду моя мама еще могла бы заработать, а вот на съем квартиры – уже нет. И я тогда решил, что должен доучиться хотя бы ради нее и должен сам зарабатывать. Сложил свою сумку, и мама проводила меня на автобус. Я опоздал тогда на учебу на три дня, за что мне немилосердно досталось в деканате. И было это, я мысленно подсчитал, девять лет назад, именно четвертого сентября.
О проекте
О подписке
Другие проекты
