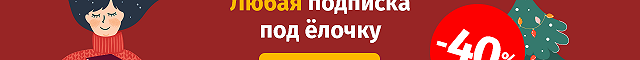
Перед вступительным экзаменом по специальности я увидела одного из слепых. Он стоял у окна в стороне от абитуриентов, сгрудившихся перед дверью аудитории, обратив к нам свое красивое лицо. Я не могла оторвать от него глаз, он стоял так близко, что я на какое-то время забыла обо всем.
Создав его таким прекрасным, природа словно возразила самой себе, опустившись вдруг на уровень человеческой мысли, то и дело опровергаемой в своем полете другой мыслью – мыслью-двойником, плутающей вокруг да около, перемалывающей в поисках своего «я» все величавые числа мира, обращая их в водяную пыль дробей, каждая из которых несла в себе микроскопические отражения части целого замысла, увы, уже неподвластные нашему глазу. Но, может, природа ничего такого и не имела в виду – просто, на минуту забывшись, причислила отдельное человеческое существо к отряду цветов или воинству деревьев, неспособных удостовериться в собственной прелести. В том, что кто-то или что-то не смотрится в зеркало, не пытается выманить у мира немедленный отклик, не рассчитывает на отражение, не тупит взгляд о чужую поверхность, будь то человек или камень, всегда есть известное благородство. Ткацкий станок моей судьбы только-только пришел в движение, и я не сознавала, что девять десятых своего времени трачу именно на поиски собственного отражения – будь то в стекле витрин, глазах окружающих или своих собственных мыслях, еще не понимая до конца, что среди зарослей этих множащихся зеркал теряется из виду та главная дорога, которую единственно и следует иметь перед собой. И потому в конечном счете мне этот слепец был тогда неинтересен. Его красота была способна ослепить глаза и выжечь сердце, если б он мог увидеть себя со стороны, если бы смог включиться в зеркальную игру отражений, отравленную волнующей опасностью живых и сложных человеческих отношений. Люди должны смотреть друг на друга, вот какая беда, даже если от их взглядов между ними вырастают дремучие леса или кто-то падает замертво. Уже давно все в мире выстроено на видении, которое, впрочем, не ведает, что творит. Он был как невидимка, этот парень, хотя внешность и сила характера, все же прочитывающаяся в чертах лица, обрекали его на то, чтоб быть героем, человеком, о котором говорят, о котором думают и перед которым открывают настежь двери, чтобы зазвать его в дом, поймать на кончик языка, удержать на краешке мечты.
Дверь аудитории, за которой сидела комиссия, открылась, и высокая сухопарая женщина с коротким ежиком волос позвала его:
– Коста!
Слепой разулыбался и пошел навстречу ее голосу; перед ним, как перед важной персоной, все расступались.
Как только он скрылся за обитой дерматином дверью, мы все прильнули к ней. Всем было интересно, что может исполнить на фортепиано слепой. Мы даже немного приоткрыли дверь, чтоб лучше слышать его игру.
Игра его нам показалась напряженной и слишком правильной, в ней не было полета свободного чувства, но это была честная, хорошая игра. Вместо Баха этот Коста начал почему-то со «Смерти Изольды» Вагнера в переложении Листа. Затем он заиграл сложную сонатину Равелли, и мы получили возможность убедиться, что техника у него превосходная. Потом – «Тарантеллу» Даргомыжского, звучание которой поразило меня настолько, что я не сразу поняла, в чем, собственно, дело, и только после того, как отлетело несколько музыкальных фраз, сообразила, что «Тарантелла» исполняется на двух фортепиано. Второй инструмент звучал гораздо сильнее и богаче, чем первый. Я и не думала встретить в провинциальном музыкальном училище такого сильного исполнителя: обычно наши преподаватели быстро старились после своих консерваторий и скорее могли что-то объяснить словами, чем показать игрой на инструменте. Я струхнула. И перед таким учителем мне предстояло играть!
Коста вышел из аудитории. Мы все, попятившись от двери, быстро рассыпались по коридору – почему-то никто не хотел играть после него. В дверь концертного зала дерзко проскользнула Неля. Мне хотелось прежде узнать, кто тот педагог, с кем Коста так здорово играл в четыре руки. И я подошла к слепому:
– Вы не скажете, кто это с вами играл Даргомыжского?
Слепой любезно улыбнулся и протянул мне руку, я вынужденно подхватила ее и пожала.
– Коста, – не отпуская моей руки, представился он. – Это играла моя учительница Регина Альбертовна. Мы с нею полгода готовили эту программу. Рекомендую вам ее, очень сильный педагог.
– Это-то мне и не нравится, – пробормотала я и, чтобы преодолеть смущение, спросила: – А в чьей обработке эта «Тарантелла»?
– Тоже Листа. Он пахал не только на своего зятя Рихарда, а еще на добрый десяток композиторов.
Коста смотрел сквозь меня, и на невидящем лице его играла тень насмешливой улыбки. Он продолжал держать меня за руку и, похоже, от души забавлялся моим замешательством. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы из зала не вышла та стриженая женщина и не подошла к нам.
– Коста, отпусти руку девушки…
Коста освободил мою руку и, обернувшись на голос преподавательницы, заговорил с ней о своем выступлении, тотчас забыв обо мне. Тут вышла Неля, отыгравшая свою программу. Я вошла в зал.
За сыгранного мною Баха, Черни, Скарлатти и Чайковского я получила четверку с минусом. На большее я и не рассчитывала, потому что Регина Альбертовна быстро вернулась в зал и я, заробев, сразу стала сбиваться. Зато экзамен по сольфеджио в полном объеме мне держать не пришлось. Едва преподавательница, которую звали Ольга Ивановна, доиграла до конца заданную нам мелодию, мой диктант был готов. Ольга Ивановна взяла со стола мой нотный листок и просияла так, будто я ее лично чем-то осчастливила. (Потом-то я поняла, что означала эта радость.)
– Так у вас абсолютный слух?.. С вами все ясно, – сказала она. – Вы свободны.
Спустя три дня я отбарабанила историю, что-то про народников и террориста Каляева, про всех этих людей, которым медведь на ухо наступил, вследствие чего они хором запели свою «Варшавянку», да и нам тоже завещали петь хором, чтобы не слышать своих собственных голосов, потом я быстро переписала с фотошпаргалки сочинение о «лишних» людях, а уж после этого состоялось собеседование, на котором именно лишние, те, кто набрал свои баллы со скрипом, как я, например, должны были отсеяться.
Комиссию возглавлял директор училища, благодушный семидесятилетний старец, у которого было какое-то заболевание, мешавшее ему поворачивать голову; ноги он передвигал как статуя Командора, что, правда, сообщало его фигуре некоторую величавость, свойственную вообще нашей склеротической эпохе. В комиссию входили восторженная Ольга Ивановна, меня уже полюбившая, преподаватель литературы, бесцветный мужчина, похоже, совсем недавно догадавшийся о своей бесцветности и потому охваченный зудом мстительной подозрительности, и, наконец, Регина Альбертовна. Грозная комиссия провинциальных педагогов, чем-то трогательная, в чем-то напыщенная и пугающая, одна из бесчисленных комиссий, заседавших в эти календарные дни (подумать только!) во всех больших и малых городах страны, от моря и до моря. Эта комиссия собралась за кумачовым столом с графином посредине, в казенных гранях которого медленно угасал предзакатный луч моей надежды, чтобы в очередной, в бесчисленный раз взвесить меня на весах общественной пользы, преподать урок и указать мне место, выдавая всем себя за первый сорт, а меня за последний, будто ни у одного из членов ее не было всего того, что лишало почвы под ногами нас, трепещущих абитуриентов: ни неврозов, ни запоров, ни безденежья, ни больных родственников и завистливых друзей – все это было у нас, а у них не было, и вот они собрались судить нас на предмет неврозов и потеющих подмышек… Я редко вызывала у карьерных людей симпатию, в моих глазах, должно быть, от рождения стояло это снисходительное знание – про больных родственников, про неврозы и подмышки. Преподаватель литературы уже смотрел на меня волком.
Я поняла, что вся надежда в Ольге Ивановне, которая уже полюбила меня за абсолютный слух. Литератор с некой брезгливостью, относящейся, очевидно, к моей мини-юбке, осведомился, почему я приехала поступать в их училище. Взглянув на Ольгу Ивановну, я запела про Грибоедова и Пушкина, соловьем залилась про Лермонтова и Марлинского. Ольга Ивановна радостно кивала. Преподаватель литературы поинтересовался, кого из классиков я люблю. Классики. Все они, кроме Достоевского, слава богу, были в чести. Достоевский не совсем. Поэтому Достоевского я опустила, хотя прочитала его всего, а «Идиота» эпизодами знала наизусть. Он спросил, кого из современных писателей я знаю. Современных! Тут надо было ухо держать востро! Я назвала одно имя – лицо его стало непроницаемым, с него даже слетело выражение праведника, терпящего напраслину. Другое – он удрученно махнул рукой и отвернулся. Буквально рискуя жизнью, я припомнила названия двух последних повестей Солоухина. И сразу увидела, что попала в яблочко: литератор засиял, засветился радостью. Мы заговорили о поэзии. Конечно, о Лермонтове. Директор благосклонно кивал – оказывается, шея его сохранила способность хоть к какому-то движению. Ольга Ивановна всячески выказывала свое удовлетворение: очевидно, этот тип, преподаватель литературы, имел здесь решающий голос. Зато Регина Альбертовна слушала меня с недоверчивой усмешкой, неслышно отбивая такт пальцами по краю стола, и это меня беспокоило. Мне следовало бы, наверное, и ее включить в круг лиц, лишенных неврозов и подмышек. Маяковский, Рождественский, Евтушенко. Еще бы, Фатьянов. Регина Альбертовна продолжала усмехаться. Перешли на музыку. Чайковский, Равель, Стравинский, Перголези, Россини, Люлли, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев. «Что вы любите у Прокофьева?» – вдруг спросила Регина Альбертовна. «Кантату «Иван Грозный», – дерзко произнесла я с таким видом, будто истина побуждает меня стать выше общепринятых мнений, и тогда Регина Альбертовна, обнаружив себя главной в этой четверке, безрадостно произнесла:
– Вы зачислены на первый курс. Поздравляю вас. Вы свободны.
Свободна!
Я вышла из концертного зала, испытывая легкое головокружение, чем-то близкое чувству обманутости. Мне не давала покоя гримаска, с которой меня прочли и, похоже, отвергли, – Регина Альбертовна слушала мои ответы со все возрастающей скукой, а я так старалась понравиться именно ей. У меня все не шла из памяти ее стремительная, яркая игра на фортепиано. Никогда мне так не сыграть, никогда. И, похоже, она это уже почему-то знает. Тогда зачем я остаюсь здесь? Зачем стремлюсь занять чужое место? Нерастворимый горький осадок этого знания о себе уже медленно отравлял мне кровь…
Тут я увидела сидящих на скамейке с аккордеонами в руках двух слепцов. Один из них, очевидно слабовидящий, был в больших очках-окулярах. Я прошла мимо них к доске объявлений. Они как по команде вдруг вытянули шеи в мою сторону, беспокойно зашевелились и сначала шепотом, а потом в голос яростно заспорили:
– Это она!
– Ты-то почем знаешь?
– Духи. Это ее духи.
– Мало ли кто душится такими духами!
– Точно она!
– Ладно, давай проверим… Девушка, э, девушка!
Девушки, вместе со мной стоявшие перед расписанием, обернулись. И каждая стеснялась подать голос, чтобы спросить, к кому, собственно, они обращаются.
Слабовидящий, вытаращив огромные глаза, увеличенные его очками-биноклями, нажал на клавишу аккордеона:
– Это какая нота?
Девушки рассмеялись, а я ответила:
– Соль.
Тут они вовсю принялись нажимать на клавиши своих аккордеонов. Я едва успевала отвечать. Наверное, ответы мои были правильны, потому что слабовидящий широко улыбнулся и попросил:
– Подойдите к нам!
Я сделала один шаг и оглянулась на остальных.
Глаза девушек за моей спиной, казалось, удерживали меня от второго опрометчивого шага на краю открытого космоса, который отверз передо мною взгляд слепца, и слабовидящий усилиями своих стекол приостановил начавшийся было со мною процесс аннигиляции. Его видение, скорее всего, отражало истинное положение вещей. Я и сама не слишком была уверена в своем существовании и тоже нуждалась в окулярах, чтобы хоть с их помощью приблизиться к действительной жизни. До меня сейчас можно было дотронуться, можно было убить, но являлось ли это доказательством подлинности моего бытия? Если я уже родилась, то почему еще не живу? Заданность маршрута, вектор сопутствующих ему чувств, предвзятость существования были налицо: разве здесь могло быть место жизни? Попытка начать все с чистой страницы была обречена на провал: на ней уже проступали симпатическими чернилами написанные правила – ни клочка для чистого экстаза, патетического безумия! И если мы еще несли в себе частицу подлинности, то этим были обязаны природе, движущейся сразу во всех направлениях и выводящей слово «вперед!» полетом шмеля или опаданием листьев.
– Меня зовут Теймураз, – представился слабовидящий.
– А меня – Женя, – назвался слепой.
Я назвала свое имя.
– Я вас сразу узнал, хотя вы сегодня в другом платье, – желая блеснуть своим зрением, сказал Теймураз.
– Это я узнал!
О проекте
О подписке