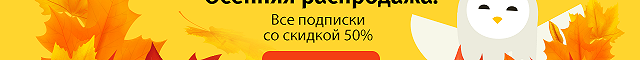
5. Молодильное яблоко
Чанган свернул в Большой Палашевский и – пока скользил до поворота на Малую Бронную – вдруг развиднелось. Снег превратился в дождь, пошел крупными плетями, сквозь них, ослепляя, сверкая в каплях, пробило злое маленькое солнце и зажгло медным огнем буквы над входом в угловое здание. Вверху – лозунг клиники, Леднев сам его когда-то и придумал, взяв из 1-го послания к коринфянам:
Последний же враг истребится – смерть.
А ниже – шильда:
клинический центр
МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО
Московского государственного института долголетия
им. Святого Помазанника Божьего…
Имя Государя было замазано: по нему красной краской был выведен символ хакер-анархистов – хер в круге, перечеркнутый внизу буквой аз. Взбесились они сегодня ночью, что ли?
– Ты погляди, ну! – сказал он Чангану, расплачиваясь и выпрастывая наружу свои длинные ноги. – Мерзавцы!
– Спасибо на здоровье добрый путь! – ответил вежливый беспилотник и ушелестел вдаль.
Леднев прошел через тяжелые деревянные двери старинной работы – уступка моде, они выполняли чисто декоративную функцию, как и весь наружный контур здания. Внутри этого помпезного новодела в стиле сталинской эклектики располагалась сеть разноэтажных переходов с ИД-пропусками на каждом уровне – и с лифтовой будкой в конце.
– Все клин-роботы на уборку территории! – заходя в лифт, рявкнул Леднев, – Органические сотрудники! У вас глаза на жопе? Что это такое? Вы шильду на входе видели? Вы там что, с ума посходили? Если через тридцать секунд не будет чисто, всех уволю нахрен.
Последнее он мог бы и не добавлять – все в клинике знали: фразу «органические сотрудники» Леднев произносит, когда хочет стереть с лица Земли все человечество, а не то что кого-то там уволить.
Он возглавлял клинику уже двадцать пять лет – после смерти бывшего главы, доктора Кохана. А работал здесь – более тридцати. С тех пор как под научным руководством Кохана – который любил и вел его аж с довоенных времен, с прекрасных времен аспирантуры и защиты диссертации, – Леднев создал формулу «Кощеевой иглы». Собственно, на базе их исследовательской работы и была основана клиника. Почему Кохан не захотел воспользоваться изобретением любимого ученика и предпочел умереть от старости – загадка.
Леднев знал: в околонаучной среде расползались отвратительные слухи. Будто бы он украл изобретение у Кохана, присвоил себе, а Ко-хан – тут его изображали человеком не от мира сего, на грани аутизма, эскапистом и социофобом, эдаким безумным профессором – каким он, разумеется, не был, иначе не смог бы возглавлять институт и ворочать этими глыбами, магматическими породами человеческих отношений… – так вот, будто бы святой Кохан не захотел бороться с коварством вероломного ученика, и – вот, избрал такую меру протеста: уйти из жизни, презрев «Кощееву иглу», как презирают пользоваться украденным предметом из рук вора.
Яд просачивался в СМИ. И вот уже появились идеи, будто Леднев сам и убил Кохана. Тут версии пошли одна другой мерзопакостнее. Какая-то газетенка распространила сплетню про их гомосексуальную связь: мол, Леднев, жестоко играя чувствами Кохана, просто довел старика до инфаркта. Другая, где в редакции сидели охранители духовных скреп, яростно вступила в полемику: мол, не надо грязи, руки прочь от Кохана, не позволим пятнать имя великого русского ученого! – и в итоге договорились до того, что Леднев спровоцировал инфаркт учителя, отравив его каким-то хитрым препаратом.
Все это змеиное шипение, эти укусы исподтишка сильно подпортили характер Леднева – солярный, гедонистический и даже наивный. И где-то к семидесяти годам он превратился в «Богомола», в хищное сухое насекомое, которое сейчас всем поотрывает головы… Хотя, если разобраться, это все та же декоративная дверь, не что иное как дань моде – удобный для всех и всеми признанный образ.
Он спустился на базовый этаж, перешел в другую кабину и поднялся в холл. Здесь, на вахте с обычным роторным турникетом, стоит обычная «белковая» охрана – сегодня это ражий дебелый парень Артем. Самый простодушный из охранников. Сколько бы ни было выстроено уровней технозащит, где-то в этой цепи обязательно должен присутствовать человек. Даже если этот человек – дурак.
– Ну, вы им жару задали! – говорит Артем восхищенно, по-лакейски отделяя себе от «них» – тех, кому сделал выговор Леднев.
– Здравствуй, Артем, – Леднев отряхивается и заодно как бы рассеянно вынимает из подмышки сверток с головоломкой-звездой.
– Доброго утречка, Дмитрий Антонович. А это что это у вас там такое, ну-ка, ну-ка? Предъявите!
Голос его звучит игриво и лукаво. Он, как и все глупые люди, думает, что наделен исключительной проницательностью и чувством юмора.
Леднев разворачивает сверток.
– Опять какая-то умная хреновина? Куда вы их только складываете? У вас там, поди, и места не осталось!
– А, пожалуй, ты и прав, – говорит Леднев озадаченно. – Не осталось. Вся полка забита.
Артем самодовольно лыбится.
– Может, подержишь эту штуку у себя до конца рабочего дня? Пока я там разгребусь… Освобожу место. Ставить-то некуда. Заодно разгадаешь.
Толстые уши охранника мгновенно воспламеняются.
– Да я-то в два счета разгадаю! В два счета! А смысл? А? Зачем же мне вам удовольствие ломать! Я ж не зверь какой! Не-не, и даже не просите – не буду! Вот еще вздумали… Да и времени у меня нет – служба!
– Служба – это дело. Понимаю, – Леднев проходит через турникет, оборачивается. – Но Лигу-то будешь смотреть?
Артем радостно вспыхивает и переливается всеми цветами радуги, как синекольчатый осьминог.
– А то! Полуфинал же! Святое!
Леднев идет к лифту третьего уровня, триумфально вскидывая над головой большой палец: мы с тобой одной крови! Теперь этот лопоухий мальчик даже не вспомнит, что я там нес подмышкой: звезду, шар или параллелепипед.
6. Ветер, намеченный грубой кистью
От отца осталась картина. Она казалась незаконченной. В ней не было порядка: ни твердой формы, ни отчетливых силуэтов, одна кромешная зелень. Множество оттенков зеленого, светящихся изнутри, как сколы драгоценных камней. Из мглы грубых тесно наложенных мазков проступал сад – буйные густопсовые кроны, простреленные насквозь солнцем, ветром зачесанные набок косматые травы и розоватый пробор тропинки, которая, нарушая все законы перспективы, как бы тоже вздувалась на ветру – но особенно меня поражало движение выпуклых и рваных, как струпья, мазков – оно имело свой ход, противоположный ветру, меняя направление смысла, обещая какую-то тайну.
Я никогда не видела ничего подобного в живой природе, но странно: я как будто все здесь узнавала. Мне казалось, что эта картина – про меня. Что это я иду по тропинке в лучезарном саду с двумя ветрами и что все это было со мной когда-то давным-давно и до сих пор продолжается. В детстве я почему-то думала, что память умеет оглядываться не только назад, но и вперед, что «давным-давно» – это не обязательно о прошлом, это может быть и о будущем. И когда взрослые говорили о каком-то событии «это было столько-то лет назад», я воображала, что фраза «это было столько-то лет вперед» прозвучала бы так же естественно. Возможно, потому, что сама я, из-за малых лет, еще ничего не помнила из своего прошлого, кроме смутных образов и ощущений, которые невозможно было отнести к какому-то определенному времени.
Мы жили в 12-м корпусе семейного общежития, комната была разделена ширмой – с одной стороны обитали мы с бабушкой, с другой – мать с отцом. Когда отец пропал, нас уплотнили тремя старухами. Я помню ту мучительную тесноту, в которой мы внезапно оказались: нагромождение чужих вещей и запахов, какие-то бесконечные коробочки, пакеты, смрадные тряпки, вечные склоки, толкотня, шипение… Соседки целыми днями ругались между собой, а когда не ругались – рассказывали о своих болячках, стараясь перещеголять друг дружку, чья болячка больнее, – и снова все заканчивалось сварой. Мирились они только когда начинали перемывать косточки мужчинам – одна из них была безмужницей, старой девой, а две другие вдовы, и всем трем было что вспомнить. Тут уж к злобным старухам присоединялась и наша бабушка, и я с тоской слушала, как она клянет моего непутевого отца-художника, который, сволочь такая, нам всю жизнь сломал, и лучше бы он сдох, чем вот так пропал, как сквозь землю провалился, ведь именно из-за его таинственного исчезновения нас понизили до В-категории и ухудшили жилищные условия, о чем он думал, спрашивается? Когда мама не выдерживала и начинала заступаться за отца, бабушка подхватывалась: «А ты тоже дура. С большого перебору выбрала засеру», – и старухи одобрительно заливались беззубым смехом. «Тьхудожник! Весь вонючий от своих красок, грязный, нечесаный, да еще какую-нибудь свою мазню в дом тащит – о!» – она тыкала артритным пальцем в его картину, которая висела у меня над кроватью. Словно указывая на какой-то позор. «Натяпал-наляпал – ничего не разобрать». Старухи качали головами, хихикали. «Так и я могу», – говорила одна из них. «А я и получше умею», – похлопывала ладонью другая по шпалере у себя над головой, где была изображена ваза с красными цветами. «Вот картина, я понимаю, – показывала третья какую-то вырезку из журнала. – А? Красота!»
Через полгода мать простудилась на полевых работах – стояло холодное лето с затяжными моросящими дождями, – и в две недели умерла от воспаления легких. За пять минут до ее смерти я проснулась и увидела ее лицо в лунном свете – удивительно ясное, с открытыми внимательными глазами. «Мам! – позвала я. – Ты чего?». Она молчала, вглядываясь куда-то. «Шевелится», – прошептала она. «Кто?». Она слабым жестом указала на картину: «Там… ветер… сильный ветер… дует оттуда на меня… Зовет меня… туда». Я прижалась к ее горячим сухим рукам и заплакала. «Не плачь, – сказала она. – Там хорошо».
Через несколько дней после похорон был субботник, повсюду жгли мусор в больших железных бочках, и бабушка сказала: «Не могу ее больше видеть» – сняла картину со стены и понесла во двор, чтобы с ветошью и хламом бросить в огонь. Я закричала и повисла у нее на руке. Дальше не помню. В истории моей болезни стоит: «приступ беснования». Говорят, я покусала ее до крови. Кому-то расцарапала глаз. Кому-то оторвала рукав. Вызвали охрану, меня отвезли в спецприемник, продержали до сентября и прямо оттуда – по возрасту, как всех семилеток – отправили на поселение в Детский Город. Я знаю, бабушка добивалась права на свидания со мной, но ей отказали. Жива ли она сейчас? Что стало с картиной – успела она ее бросить в бочку с огнем или нет? Не знаю. Я жила в мерцающих оттенках зеленого, в шумном вихре мазков, закрученных против ветра, живых и грубых, царапающих пальцы.
Меня держала мечта найти то место и время, где все это происходит… Где ничего не происходит. Это означало – найти художника, который все это нарисовал. А раз найти его не смогла даже тайная полиция, я стала искать его в себе. Карандаш как-то незаметно прирос к моей руке. И так я ощупывала мир: я думала карандашом по бумаге, видела карандашом по бумаге – и по-другому уже не умела.
Когда мне исполнилось четырнадцать, мастерица подала в Епархию просьбу-рекомендацию принять меня в школу юных иконописцев при местной церкви. Я обрадовалась: там будет все по-взрослому, все иначе – настоящие краски, материалы. Все всерьез, как в артели у отца. С нетерпением я ждала ответа из Епархии – когда же, когда… Месяц прошел, и вдруг объявляют этот закон. Закон о Второй Заповеди. Запрет на образа.
Это было два года назад. С тех пор – «ни зверя, ни человека, ни ангела, ни духа».
На школьном дворе несколько дней пылали костры из наших рисунков, книжек с картинками, плакатов, размалеванных и гравированных досок, гобеленов, штампованных иконок, статуэток, – а мы все несли и несли, и они все не кончались… Вся анимотека была перевернута вверх дном, от мультфильмов ничего не осталось. Но дети ликовали. Это были несколько счастливых дней чистого разрушения. Дымы вились над холмами Детского Города, пепел и копоть носились в воздухе, черные хлопья покрыли сады и парки, скамейки и дорожки, на месяц хватило работы дворникам. И когда наконец все было вынесено и сожжено, дети еще долго не могли успокоиться: кто тащил двуногую корягу из живого уголка, кто – любимую куклу, кто – семейную фотографию. Но взрослые нам объяснили, что игрушки, коряги и фотографии не запрещены законом.
«Чем отличается детский рисунок от детской игрушки? – говорил Ментор. – Рисуя нечто живое, телесное, с глазами и чертами, вы искушаетесь, поскольку создаете характер, и характер этот легко принять за душу – вот и ловушка! Никто не может вдохнуть душу в творение, кроме Господа. А игрушку штампует машина. Понимаете разницу? То же и фотография. Это просто механика: щелк на кнопку, и все. Помните, что душа человека – это для нас вдох. А для Бога – выдох. Метафизическая циркуляция духа. Душа человеческая – выдох Бога. Но что может выдохнуть человек в свое так называемое творение, кроме углекислого газа? Посему сказано: не делай себе никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, ибо в Судный День великому мучению будут подвергнуты художники!».
Рисование было повсеместно запрещено. Нет, конечно, что-то осталось. На уроках женского ремесла мастерица задавала нам придумывать разные узоры – геометрические или из цветов и листьев, по которым мы затем делали вышивки, плели из бисера, расписывали по тарелкам. Иногда было задание: сочинить орнамент для фигурной решетки, оконного ставня или печного изразца – тут следовало угодить мужскому вкусу, потому что эскизы отдавали мальчикам, чтоб уже на своих уроках они по нашим рисункам гнули металл, точили дерево, выпекали кафель. Иногда мы рисовали перья птиц. На павлиньих перьях есть глаза – ненастоящие, вроде маскарадных. Это можно. Некоторые цветы тоже выглядят как очи. А бывает что и похожи на фигуры людей, зверей, ангелов и бесов. Таковы орхидеи. Их рисовать – только по особому разрешению. Самый безопасный для рисования цветок – роза. Ничего в нем нет человеческого, одна завернутая внутрь спираль. Чистая математика.
Математика – это хорошо. Хоть и умный предмет, а богоугодный. Так говорит наш Великий Государь Помазанник в своем Послании «О пользе и вреде знаний», которое каждый год, 1-го сентября, мы заслушиваем на торжественной линейке.
«В математике нет символов для неясных мыслей. Она не искусит тебя пустословием и мудрствованием лукавым. Она речет на языке идеальных форм и чисел, которые суть отблеск Божества. Ибо это единственная наука, что стоит посредником меж духом и материей и позволяет слабому человечьему разуму воспарить, но не вознестись, понеже паки и паки преподносит ему урок смирения пред лицом бесконечности и величием Божьего замысла.
Смирись и возрадуйся! Не каждый способен к наукам – но каждый способен к полезному труду. Задача школы – обнаружить и развить твои способности, обучить ремеслам и дать знания, которые послужат дальнейшему процветанию и укреплению Нашего Великого Государства во славу Нашу.
Вот единственная практическая цель существования умных предметов и отраслей знания, по большей части бесполезных для духовного воспитания. А иные, о коих умолчим, и вовсе способствуют развращению умов и падению нравов. Вы знаете, что случилось с нашими внешними врагами, – все они, молясь на так называемый научно-технический прогресс, погрязли в обезьяньем позоре своих богомерзких учений и так оскотинились, что мы вынуждены были огородиться от них нашим Великим Чеканным Окладом. Но с высоты дозорных башен мы зорко следим за ними – и что говорим? Правильно. Слава Богу! Хвала Всевышнему, что хранит благословенную Нашу Державу и помогает уберечь возлюбленный Наш народ от испарений трупного яда, которым насквозь отравлен воздух внешнего мира.
Сказано в Писании: «Начало мудрости – страх Господень», и яко Мы, по высочайшей воле Нашей, страх имеем, тако даруется Нам и мудрость в державном управлении и духовном окормлении народа Нашего возлюбленного. Недаром одной из первых и мудрейших реформ Наших стала реформа образования: из школ Мы изгнали все богопротивные науки и сатанинские учения, предав их забвению.
Но сие лишь начало пути: еще многое предстоит совершить во славу Нашу. Вы еще увидите великие чистки и благодатные кары – скоро, скоро грядет новая эра целомудрия, поелику страх и мудрость Наши возрастают и взывают к решительному действию. Возлюбленный Наш народ! Возрадуйся! Скоро, скоро вся твоя жизнь станет одним страхом Божьим, а все грехи твои, яко багряные, как снег убелятся. И так унаследуем Царствие Небесное!».
Я не осмысливала всех слов, но звуки впивались в мою душу и, будто кристаллы, распускались ледяными узорами по всему телу, вызывая дрожь. Дрожь и восторг – и сострадание ко всем детям внешнего мира: как они там, в миазмах трупного яда?.. Почему-то представлялись мне они все какими-то формами без движения, вроде зародышей, которые лежат полумертвыми в зловонных ямах, во тьме, поодиночке, и даже стонать не могут от недостатка сил. О, если бы услышали они животворный благовест колокольных звонов или песни муэдзинов на восходе луны! Узрели светлоогненный лик Стожильного Государя!
О проекте
О подписке