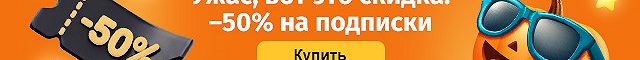
Можно ли наказывать детей физически?
Для меня ответ на этот вопрос был всегда предельно ясным.
Нет, нельзя.
Но так думают далеко не все.
Сотни раз встречал – в прессе и в общении – сожаления о том, что розги нынче не в моде. Мол, что не вбито в детстве через попу, взрослому потом в голову не вложить.
Причем это мнение разделяют отнюдь не только маргиналы, сами выросшие в унижениях и битье. Я слышал сожаления по поводу запрета физических наказаний даже от вполне, казалось бы, умных и интеллигентных людей.
Короче, я – категорически против. И как человек, и как психолог.
Во-первых, потому, что это нечестно. Мы же, взрослые, сильнее. Даже боксеры дерутся каждый в своей категории. А мы вроде как собираемся учить своего ребенка «разумному, доброму и вечному». Но изначально нечестно.
Во-вторых, это дает ребенку крайне негативный опыт поведения в конфликтной ситуации, который может подтолкнуть в будущем его самого к роли жертвы или мучителя. Разумеется, непреложной связи между физическим наказанием и печальным будущим нет. Но подобные тенденции существуют, и теперь это доказано уже экспериментально.
Вот, например, достаточно свежее исследование – статья от 21 апреля 2021 года1. Если кратко пересказать своими словами, то получим примерно следующее. В эксперименте участвовали 147 детей (средний возраст – 11 с половиной лет), из которых 40 подвергались физическим наказаниям (were spanked – трепке, порке, шлепкам), а 107 детей не имели дела с такими методами воспитания. Девочек – 75 человек, то есть примерно половина. Среди детей пропорционально присутствовали представители различных рас и народностей: белые, африканцы, латиноамериканцы и азиаты.
Испытуемым в аппарате МРТ предъявляли изображения лиц с выражением различных эмоций. Далее реакции мозга детей на стимульный материал визуализировались и анализировались. В черно-белой «текстовой» книжке невозможно показать картинки с визуализацией работы мозга, выполненной магнитно-резонансным томографом. Желающие посмотрят их по приведенной ранее ссылке.
Я же сразу перейду к результатам исследования. Они сконцентрированы в двух сканах, паре сравнительных изображений, где мы воочию видим разницу между реакцией детей, познавших даже такое «малозначительное» физическое насилие, как шлепки от любящих родителей, и детей, которых такими методами не воспитывали. И это вовсе не случайность, потому что, как мы помним, количество детей, участвующих в эксперименте, достаточно велико.
Итоговый вывод авторы исследования делают примерно такой: «Дети, которых шлепали, демонстрировали большую активацию в нескольких областях медиальной и латеральной префронтальной коры головного мозга… по сравнению с детьми, которых не шлепали.
Эти результаты свидетельствуют о том, что (домашняя) порка может изменить нервные реакции на угрозы окружающей среды таким же образом, как и более тяжелые формы жестокого обращения».
Закончу на самом что ни на есть бытовом уровне.
Я ни разу в жизни не ударил ни своих, ни чужих детей. Но все равно навсегда запомнил эпизод, который до сих пор меня напрягает. Мы с сынишкой поднимались по лестнице в нашем подъезде, он шел на пару ступенек впереди меня. Была уже ночь, люди спали, а сын – ему тогда было лет пять – громко и весело топал ногами. Я сделал ему замечание, он не угомонился. Второй раз сказал. Тот же эффект.
Я здорово разозлился и схватил его за плечо. Нет, не вцепился, не сделал больно. Но он, конечно, сразу повернулся и увидел мое гневное лицо. И испугался. Он уже давно выше меня ростом и, наверное, умом. Но вот эти испуганные ребячьи глаза до сих пор гложут мою совесть.
Послесловие к тексту. Вообще-то, я думал, что затронутая тема – можно ли физически наказывать детей? – закрыта. Но вопросы на эту тему приходят и приходят. А значит, надо снова и снова отвечать, потому что проблема очень важна для психологического здоровья ребенка.
Причин как минимум три. Первая – выше я привел экспериментальные данные (подобных экспериментов проводилось много, они все перепроверены в разных странах и разными коллективами ученых), доказывающие, что «битые» дети (даже битые не сильно, которых, как говорится, только шлепают) заметно отличаются психологическими реакциями от детей «небитых». Отличаются в худшую сторону. Проблема – потеря базального доверия (общего доверия к окружающему миру, готовности конструктивно с ним взаимодействовать), которое закладывается с раннего детства и крайне тяжело восполняется позже.
Вторая причина – научив ребенка принципу «кто сильный, тот и прав», вы можете быть очень разочарованы, когда ребенок вырастет и станет сильнее вас.
Третья причина – применяя заведомое физическое преимущество и намеренно причиняя ребенку боль, вы его унижаете. Конечно, можно унизить ребенка и не избивая. Но нельзя побить, не унизив.
Итак, еще раз: можно ли бить детей (наказывать физически) с целью улучшить их поведение, показатели учебы и т. д.?
Кому лень читать длинные статьи с аргументами, результатами исследований и выкладками, отвечу сразу: НЕТ, НЕЛЬЗЯ. Нельзя пугать физическим наказанием и тем более осознанно причинять боль ребенку НИ ИЗ КАКИХ СООБРАЖЕНИЙ.
Вот, если вкратце.
Впрочем, заранее знаю, что некоторые читатели имеют свое непоколебимое мнение: «Меня отец бил, а я нормальным вырос». К сожалению, это не аргумент, потому что никто не знает, каким бы талантливым вы выросли, если бы вас не били.
Мораль же сей басни такова: к физическому насилию прибегает лишь тот воспитатель, которому не хватило иных средств влияния и воздействия. А может, он их просто и не знал никогда.
Любовь как основа воспитания (и онтогенеза)
В предыдущем разделе речь зашла о базальном доверии. И о его возможной потере в случае применения к ребенку физических наказаний. Но не менее опасно лишать ребенка любви.
Я постоянно подчеркиваю отсутствие в своих текстах претензий на какие-то философские высоты. Я занимаюсь конкретными проблемами конкретных людей. Но в данном случае, пожалуй, уже можно обобщать. Хотя начнем опять с очень конкретного примера.
Самый типичный образец любви – любовь матери к ребенку и ребенка – к матери. Еще Фрейд и его современники установили необыкновенную важность постнатального онтогенеза для всей будущей долгой жизни человека. (Сам термин «онтогенез» — индивидуальное развитие – предложил еще Геккель в середине XIX века. И хотя современная наука под онтогенезом человека понимает фактически всю человеческую жизнь, наша сегодняшняя тема ограничивается первыми годами развития ребенка.)
Итак, долгожданный (или нежеланный) ребенок родился. Пренатальный, внутриутробный период развития, конечно, тоже важен. Достоверно известно, что на личность будущего ребенка еще до рождения влияет материнское отношение к нему.
Наверное, не надо объяснять как. Нежданное дитя, недополучившее уже в утробе любви и ласки, оказывается в гораздо более сложном положении, чем его счастливый сверстник.
И тем не менее фактор материнской любви во время внутриутробного развития влияет, на мой взгляд, все же меньше, чем после родов.
Введем теперь еще один термин, а потом перейдем к сути этого раздела.
Материнская депривация. Под мудреными словами скрывается простой и трагический смысл: лишение малыша материнской заботы, участия и, наконец, собственно присутствия рядом.
Причины могут быть любые, от наркотиков и безответственности до болезней и войн. А вот результаты – нарушения развития – получаются одни и те же. Исследователи «разносят» их на четыре уровня.
Сенсорный — нарушения начинают негативно ощущаться еще во внутриутробный период. Особенно если будущая мамаша не отказывается на время беременности от так называемых вредных привычек.
Но максимально разрушительные воздействия на сенсорном уровне происходят после отказа матери от ребенка. По сравнению с естественными условиями у малыша в разы (десятки, сотни раз?) уменьшается количество контактов со значимыми людьми – визуальных, слуховых, тактильных. И уж совсем мало становится контактов, эмоционально позитивно окрашенных. Но об этом речь пойдет дальше.
Что имеем в итоге? Ребенка с выраженными нарушениями эмоциональной устойчивости, ритмов сна и бодрствования, ребенка-«липучку» (из-за нехватки телесного контакта) или, наоборот, ребенка-«Маугли», недоверчивого и трусливо-агрессивного.
Отсюда сразу же резкое отставание на связанных с сенсорным когнитивном и эмоциональном уровнях.
Ну а дальше совершенно закономерно вылезут серьезнейшие нарушения на четвертом, социальном уровне. Если детеныш из обычной семьи быстро начинает ощущать себя членом рода, то брошенному ребенку такое прочувствовать вряд ли удастся. Он постоянно ощущает себя изгоем.
Замечательный психолог Эрик Эриксон для таких случаев создал чеканную формулировку: базисное недоверие к миру.
Но и это еще не все.
Современные исследования показывают, что материнская депривация приводит не только серьезнейшим нарушениям развития, но и к возможной прямой физической смерти ребенка! Именно с материнской депривацией связывают многочисленные эпизоды внезапной смерти до того здоровых младенцев в случае непривычно длительного отсутствия матери.
Конечно, к счастью, такие крайние проявления достаточно редки. Но они тем не менее подчеркивают главную мысль этого раздела, вынесенную в ее заголовок.
И опять перейдем к практике.
Я каждый день занимаюсь психологическими (реже – психическими) проблемами моих доверителей. Так вот, на базе самых что ни на есть практических наблюдений утверждаю: основная масса проблем возникает именно из-за недостатка любви, тепла, участливого внимания. Причем такой недолюбленный ребенок потом точно так же будет «недолюбливать» своих близких и окружающих.
Можно ли исправить ситуацию? Иногда можно, иногда нет. Но в любом случае сначала надо в ней разобраться.
Мужчина, 42 года, высшее образование, высокая должность, отличное материальное положение. На работе его привыкли видеть строгим, компетентным и справедливым руководителем, всегда уверенным в себе и в своих решениях. А на приеме, сидя напротив, жалуется мне, что он никому не нужен, чувствует себя потерянным, одиноким, имея при этом жену и троих детей. Осторожно расспрашиваю его о детстве. Он доволен своим воспитанием, хотя называет его очень спартанским. Детей, троих мальчиков, тоже считает неправильным баловать, обнимать, хвалить за успехи, «чтобы не выросли бабами».
«Бабами» они точно не вырастут. Но высока вероятность того, что, став успешными взрослыми, вынуждены будут так же, как и их папа, компенсировать свои психологические проблемы у специалиста.
А вот еще пример. Знакомая мамаша рассказала, как корректирует поведение своего четырехлетнего сына: «А я перестаю его замечать. День, два – и как шелковый становится».
Таким «воспитанием» реально можно изуродовать психику ребенка: материнская депривация в принципе не способна сыграть положительную роль в его развитии. Я попытался ей это объяснить, но, похоже, женщина осталась при своем мнении.
О проекте
О подписке
Другие проекты