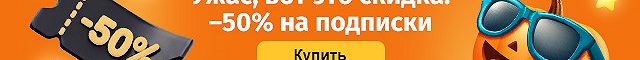
– Гриша! – Толик орет и сразу бежит обниматься. Брат как-никак. – Мудак мелкий, я думал ты сдо… – осекается, заметив форму. – И не сказал, что сегодня приедешь. За такое не стыдно и по зубам получить. – Мелким он Гришу всю жизнь называет, хоть сам на полголовы ниже, а старше всего на четыре года. Компенсирует первое вторым. – Пойдем, у меня как раз водочка стынет. Думал в одно рыло нажраться, а тут такой повод.
Анатолий Лебедев за два года обзавелся бритой головой, немного усталым взглядом и мешками под глазами. Его тощее, тщедушное тельце с вопросительной формы позвоночником так рахитным и осталось, видимо, решив, что его хозяину девушку заводить пока рано и будет пора после сорока, чтобы смаковать оставшихся разведенок. Но Толик, кажется, не унывает, складируя бутылки от беленькой прямо на кухне и о бабах даже не думая, вон у него в телевизоре какие. Стоп, чего? Какие-какие? Настолько детально женщин раньше Гриша не видел даже на рисунках. А тут еще и угол съемки такой интересный, будто в самую душу оператор заглянуть хочет.
– Ты чего, порнуху раньше не видел? Хотя в армии вам, наверное, другое порно показывали. – Усмехается, суетясь по небольшой кухне и стараясь порадовать дорогого гостя, чем послал Бог. Бог, видимо, щедр сегодня с Анатолием не был, но селедка с картошкой в небольшом количестве остались, а Гриша и тому рад. Селедочка, да под самогоночку, что может быть лучшим окончанием этого дня? Прозрачная жидкость льется в рюмку, Гриша кивает.
– Ну что, помянем?
– Кого? – недоумевает Анатолий, чуть приоткрывая рот и обнажая квадратные крупные зубы.
– Бабку твою, кого. Она же померла уже.
Лебедев крестится и сплевывает через плечо.
– Гриша, еб твою мать, она еще жива. Совсем ебнулся в своей армии?
– Извини. – Кривит губы. – Просто ее не видно, не слышно и вещей в коридоре нет. Думал, схоронил ты, сделал все как надо…
– Ай, – Толик машет рукой, – она лежачая, я привык уже. По ночам буянит, я выпью побольше и в кровать, чтоб не слышать, как она там стены мажет дерьмом и орет. Соседи вон мусоров вызывают, те уже и не реагируют. В дурку ее надо, а мне ж даже отвезти самому никак, работа на заводе сама себя не сделает, машины в наследство никто не оставил. – Закуривает, тут же предлагая вторую Грише. Тот не отказывается. – Все стонет, мол, зовут ее. Пора ей. А нельзя, чтоб внучок не мучился. То, что внучок мучится, оттирая мочу с вонючего матраса, думать ей не хочется. Вся в пролежнях, они воняют, гниют, там такой смрад стоит… Только водка и спасает. А бросить я ее не могу, я же не сволочь. – Замахивает рюмку. – Твое здоровье, Гриша. Я в следующем году тачку планирую себе взять. Ты столько всего пропустил… Но ничего. Все к лучшему. Вот будет у меня две «Волги», так я одну продам, а на второй девчонок катать буду.
Гриша хмурится, глядя в недоумении в голубые глаза брата. Из всей его немного странной внешности выделялись только глаза – чистые, что родник в погожий день. Но щетина, общая неопрятность и похмельное амбре портили это чудное впечатление.
– А где деньги ты возьмешь на две «Волги»? – Водка проваливается в желудок ядовитой раскаленной лавой. Уже и забыл, как это. – Ты же хуйню всякую на заводе собираешь, неужели хуйня трансформировалась в… – Он на секунду задумывается. Какой антоним к слову «хуйня»? – Солидный заработок?
Глаза Толика как-то подозрительно блестят энтузиазмом. Сейчас начнется.
– Ваучер, друг мой Гриша. Я же говорю, ты все пропустил. Теперь все принадлежит всем… – Гриша поднимает руки, начиная махать ими, как ветряными мельницами, лишь бы Анатолий остановился. – Да ладно тебе, в следующем году он как раз будет стоить как две «Волги». Вот там-то я и разойдусь. – Мечтательно так щеку опирает о кулак со сбитыми костяшками.
– Я даже знать не хочу. Ты же в курсе, это не мое. Я всю жизнь прожил в деревянном доме, куда свет только десять лет назад провели в количестве одной лампочки на кухне и одной в коридоре. Поэтому, пожалуйста, остановись. «Ваучер», что за слово такое? – Устало трет переносицу. Селедка очевидно пересолена, но даже так она кажется вкуснейшим из тех блюд, что ему удавалось попробовать за последние два года. Мысль о том, что надо было взять просвирки с кагором, не покидает, но уже поздно возвращаться. Хоть было бы чем закусывать, а то насолил, как в последний раз. Удивительное время. Умный человек лучше промолчит, чтобы не обидеть глупого, вот и Гриша старается не обсуждать с Толиком вопросы денег. Тот, сколько Гриша его помнил, как настоящий русский человек, искал халявы, ничего не желая при этом делать. Национальная идея нового времени.
– А че там в армии? Страшно? – Толик сморкается в засаленную майку-алкоголичку. – Я бы обоссался еще в поезде.
– Родина всегда бросит тебя. – Улыбка выходит какой-то слишком кровожадной. – Я думал, что подписываю отказ, а подписал… Верить людям меньше надо. Думал, что меня отмазали, а на деле – наоборот. Российский доброволец, как тебе? – С презрением морщится, выдыхая дым носом и тыча сигаретой в хрустальную переполненную пепельницу. – Нас там не было, никого там не было. Ага. – Замахивает еще рюмку, не чокаясь. Толик смотрит немного недоверчиво.
– А ты в Югославии был? Тебе разве разглашать можно?
– Нельзя. Но мне плевать. – Льет водку мимо рюмки. – Просят, просят, смотри. Давай помянем друзей моих. Заждались, поди, когда за них вздрогнем.
Желанное опьянение так и не приходит, Гриша все еще слишком трезв, а вот Лебедев уже начинает подплывать. Как мало для счастья надо человеку: уверенность в двух «Волгах» и бутылочка. За стенкой постукивают часы, Гриша помнит их еще с детства. Там в двенадцать два медведя лупят молоточками по облезлому грибу. Толик потягивается, захрустев спиной.
– Пойдем спать, а? Началось в колхозе утро. – Брат поднимается, почесав промежность привычным ленивым жестом. Гриша вскидывает левую бровь в немом вопросе. – Слышишь? Проснулась старуха проклятая. Щас начнет голосами разными орать и топотать. Давай мы бутылку докончим, а… – Прикладывается прямо к горлышку.
– Ты погоди, это разве не часы? – Рука вновь опускается на пояс, не находя там ничего, только раздосадованно хватая воздух дрогнувшими пальцами. Сука. Когда ж эта привычка пропадет. – Ну те, прабабкины еще.
– Два года, как те часы накрылись женским половым органом, а это она стену ковыряет, будто дырку в ней сделать пытается. И отсчитывает всегда тринадцать, а не двенадцать. Все, короче, я спать пойду, не хочу это слушать. Ты оставайся. – Собирается как-то сильно быстро. – Что в холодильнике найдешь – ешь смело. Спокойной ночи.
Гриша остается наедине с дымящимся окурком и остатками водки в рюмке. Толик хлопает дверью, включает телевизор у себя достаточно громко, чтобы не слышать, что происходит через две комнаты. Гриша задумчиво вслушивается в звуки за стенкой, из любопытства приложив ухо. Только скрежет и очень тихое шушуканье, будто бабка там с кем-то активно переругивается, боясь разбудить внучка. Гриша поднимается мягко, пружинистым шагом направляется в свою комнату. Вскрывает пол в нужном месте, сует руку. Как хорошо, что не нашел никто. На всякий случай прячет замотанное в тряпку нечто вытянутой формы в карман. Мало ли что. Зря, что ли, сушили и собирали, а потом разбрасывали по местам важным? Он аккуратно подходит к двери комнаты бабы Шуры. На ней ногтями выцарапана рожа какая-то не совсем человеческая и запекшейся кровью нарисовано схематичное дерево. Как детки в садике палочками рисуют, так же и тут. Осина. Кто бы сомневался. Ладонью надавливает на дверь, она открывается совсем легко, тихо заскрипев. Полоса света из коридора попадает на бабку, скрючившуюся в углу.
– Я думала, ты сдох, – шамкает почти беззубым ртом. Совсем старая, сморщенная, как будто ей лет двести. Впрочем, почему «как будто»? – Чего приперся? Жили без тебя хорошо. Безбожник.
– А я думал, что сдохла ты. – Гриша останавливается на пороге. В комнате и правда непередаваемо смердит старостью и мочой. – Ты же знаешь, что тебе придется это сделать. Как я и говорил. Введи его в курс того, что происходит. – Складывает руки на груди. Бабка скалится деснами, смотрит злобно крошечными глазками.
– Мои бесы, меня пусть и мучают. Он хороший мальчик…
– Он спивается, баб Шур. – Гриша щелкает выключателем, прикрывая за собой дверь. Старуха закрывает глаза ладошками. – Я бы тебе потолок разобрал, да ты не на том этаже поселилась. Давно бы уже отошла. А так себя изводишь, его изводишь. Богомолица. Где твой Бог сейчас? Почему не заберет? Потому что ты людей портила. Грехов на тебе столько, что не отмолить. – Проводит пальцами по изрезанным ногтями обоям, всматриваясь в символы.
– Не так, как сестрица моя. Все грехи ейные терь на тебе. Толик не заслужил так жить и так умереть.
– Толик, может, помогать бы стал. Сердце у него золотое, доброе. Хоть и наивным вырос. Ты все упрямишься, жадничаешь, за жизнь цепляешься. Сколько прожила-то уже, ну? А все помереть не можешь. Сдаст тебя внук в дурку, там секрет долго не продержится. Знаешь ведь, что за это бывает. – Гриша приоткрывает окно, чтобы проветрить. Бабка замирает, а потом быстро на коленях ползет к кровати, засовывая голову под свисающее одеяло. Копается там, грохочет чем-то.
– Они скоро опять придут. Помоги мне, а? Ты же можешь. – В сухих трясущихся ручках оказываются две вырезанные из дерева фигурки. – А я тебе расскажу, куда Маня записи про вису краденые спрятала. Хочешь?
Гриша отрицательно мотает головой. Какие еще записи?..
– Отдай. Отдай ему и отойди с миром. Мы дальше разберемся. Только отдай уже.
Старуха мотает головой, вешая на себя деревянные сокровища. Что, крест святой не помогает? Подобное подобным выгоняют. Гриша вытаскивает из кармана сверток, мягко разворачивая, чтоб не повредить высушенные стебли.
– Смотри, что у меня есть. Тебе ночь даст продержаться. Ты только отдай, тогда они тебя не тронут. Ты им что обещала?
– А ты как думаешь? Молодая была, глупая. Сто лет служения в обмен на сто лет служения. А я не хочу. Они же меня измотают. – Быстро рассыпает вокруг себя круг из соли. – Толику прохода давать не будут, за штаны дергать. Дай нам дело, мы без дела не можем, – бормочет себе под нос. Гриша фыркает. Вот же противное создание.
– Отдай, и я обещаю, что помогу тебе отойти, не выполнив условий. – Помахивает скруткой. – Всего-то поджечь надо.
– Нет! – бабка шипит рассерженной кошкой. – Не отдам. Таким же бесовым отродьем станет, как ты. Таким же гадким, мерзким богохульником. Это проклятие нашего рода, и он не должен принимать его на себя. Пусть живет. – Задирает голову, пялясь в угол. Ее лицо мнется, словно пластилиновое. – Они пришли, пришли. Мучить меня будут, кости пересчитывать. Помоги мне, пожалуйста, что тебе стоит. Не будь такой же тварью, как Манька была.
Гриша молча выключает свет и покидает комнату, возвращается на кухню с мыслями, что нужно было отлить себе водки на всякий случай. В телевизоре продолжается задорное сношение, из комнаты старухи доносится только тихое постанывание. Интересный аккомпанемент. Гриша закуривает, положив скрутку перед собой.
Грохот, топот маленьких ножек, тишина. Он слышит хриплое дыхание старухи, по-звериному злое. Не желает она принимать положение вещей таким, какое оно есть. Пусть помучается тогда, однажды должна устать противиться.
– Гри-и-иша-а-а-а, – старуха стонет из комнаты. – Помоги мне, они же мне всю кровь выпьют.
Он лишь фыркает, смачно затягиваясь сигаретой. Подождем. Собирает грязную посуду по армейской привычке, выбрасывает все недоеденное в переполненную мусорку. А Толик-то не торопится делать уборку, раковина уж плесенью черной подернулась. Да. Много работы предстоит. Гриша принимается отмывать тарелки и счищает налет с чугунных сковородок, посвистывая, пока баба Шура медленно увеличивает громкость воя, как будто кто-то крутит радиоприемник. Он смотрит на часы. Через полчаса как раз дойдет до нужной кондиции.
Звон, грохот, вскрик. Топот по прилегающей к кухне стене. Быстрые, торопливые шаги в коридор и обратно. Учуяли, надо же, даже проверять не стали. Гриша посматривает в телевизор, к обнаженной паре присоединились еще двое подкачанных мужиков. Это ж куда они ее собираются? Неужели, так сказать, во все самое дорогое? Дверь в бабкину комнату содрогается от удара, старуха хрипит, матерится на бесовом наречии.
– Что, все еще хочешь сказать, что я не прав? – перекрикивает шум воды, повернув лицо к коридору, чтоб услышала. – Они так десятилетиями могут.
Вляпывается рукой в размякшую в воде котлету, брезгливо стряхивая с пальцев. Анатолий, кто ж тебя учил еду замачивать? Псинам бы отдал, занялся благотворительностью. Еще один мощный удар в дверь, громкий скулеж. Не могут из комнаты вытащить, все предусмотрела, дверь-то вроде на соплях держится, а все никак.
Гриша выключает воду, садится на табурет натирать тарелки полотенцем. Время еще есть, упрямству старых поем мы песню, особенно тех, что войну пережили. В Шимвери еще родились, когда деревня была, это потом Союз город выстроил вокруг завода. Во время войны они все по лесам прятались да немчуре помогали благополучно в болоте упокоиться. Несгибаемое поколение.
– А хочешь, я сам ему передам? А то подустал, понимаешь. Баба Маня меня сутки почти за руку держала, пока не отошла, все просила позвать еще кого-то. Мне одному столько не надо. – Раскладывает посуду по полкам, параллельно сгребая мусор со стола в ведро. Пол бы протереть, да только чем? То, что Лебедев считал тряпкой, валялось в углу, старое, серое, с проплешинами. – Ты подумай, я пока мусор вынесу. – Открывает окно на кухне, вылетает с ведром на лестничную клетку. Останавливается в пролете, закатив глаза. Надпись, что привлекла его внимание до этого, благополучно пропала. Начинается. Это мы так скучали?
Мусорка тут только в соседнем дворе – массивные контейнеры с намороженными ледяными шапками сверху. Гриша добегает до нее за минуту, тут же стартуя назад. В кухонном окне стоит фигура: тощая, длинная, как будто женская, медленно покачивается из стороны в сторону. Вот же… Гриша присматривается, но ничего, кроме очертаний, разглядеть не получается. Знакомый силуэт. Так, спокойно. Нужно будет решить вопрос радикально – решим.
Взлетает по лестнице, вбегая в квартиру, и сразу спешит на кухню. Никого. Скрутка так и лежит на столе, чуть раздербаненная. Ага, значит, все-таки нервирует даже в сухом виде. Замечательно.
– Гриша-а-а-а-а, – новый стон из комнаты, переходящий в визг. Он лишь отмахивается, хватая ведро и набирая в него крутой кипяток из-под крана. – Помоги-и-и-и! – последнее уже совсем хриплое, высокое, почти нечеловеческое. Но от страха и не такие звуки издавать будешь. Гриша льет кипяток на линолеум, отпрыгивая в коридор и решив подождать, пока грязь отходить начнет. А то ботинки прилипают… Подходит к двери, прислушивается. Детский голос отсчитывает до десяти шепотом, бабка повизгивает от ужаса, снова топот, снова удар прямо рядом с лицом, но дверь ничего, держится.
– Так ты согласна? Либо я, либо они, выбирай. – Включает второй светильник в коридоре, придирчиво осматривает. Пока тут все отмоешь, от вони уже сам состаришься.
– Согласна, согласна, только пусть они уйдут, – верещит, заходясь в рыданиях. От-лич-но. Гриша идет до комнаты Толика, аккуратно приоткрывает дверь. Лебедев храпит на диване в одежде, приобнимая недопитую бутылку. Вот и славненько… Возвращается на кухню, залезая ботинком в кипяточную лужу, поджигает скрутку мастерским движением, дует, заходит в комнату, выставив перед собой, и врубает свет.
Рядом с бабкой сидит голая девка, вся в угольной пыли, только лицо чистое. И глаза белые-белые, треугольные острые зубы, широкая, радостная улыбка. Почуяв запах, она кричит раненой птицей, пытается кинуться, но не может. Отползает в дальний угол, трясясь всем телом.
– Так нельзя, – шипит, скалится. Голос густой, не мужской и не женский. – Моя она, моя! Кто платить будет?
О проекте
О подписке
Другие проекты

