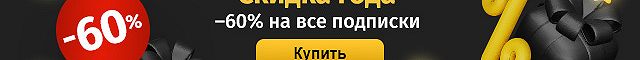
Вечеряли после службы в соборе, при которой дом на Костельне словно обливался с ног до головы колокольным звоном. С непривычки вздрагиваешь, а в двенадцать лет ей это даже и спать не мешало. Пани Барбара была последняя из молодых соседок – восьмидесяти годков – помнившая покойную хозяйку. Скатерть дома нашлась не из прежних, и непарные блюдца, и стаканы разного роста, но запах, запах стоял прежний – запах богемского гуляша, который она когда-то любила доедать и холодным. Если закрыть глаза, это ж спутать можно тогда и теперь. Пани Барбара, аккуратно подобрав соус с тарелки, покачивала головой, словно движения помогали высвобождать воспоминания:
– Очень нам помогла, когда нашей Ленки не стало. Сердечная такая. Золотой, прямо сказать, души. А потому что у самой было такое, сама чувствует, да.
Покойная Ленка являлась большой любительницей ореховых рогаликов госпожи Малгожаты. Та сидела рядом с ней, задыхавшейся в непонятном припадке, до приезда врачей, держа за руку. Врачи не успели. Пани Барбара плакала потом, что в гробу внучка «не похожа на себя». На кой черт, думала Эла, быть в гробу на себя похожей? Чтоб остающимся было больней переживать утрату? Нет, пусть уж лежать такой, чтобы сразу понятно – душа отлетела. Уже не ваша. Не здесь. А там, может быть, и полюбят.
В сорок пять доходишь до тупика, за которым преображение или смерть. Иногда это одно и то же. Зеркало над секретером в толстой резной раме с облупившейся позолотой – как портал в иной мир, где тебя уже нет.
С тем она и легла, с мыслью, что надо готовиться к переходу. Представлять бы еще, как. Эла омертвела в последние годы настолько, что иногда казалась себе камнем, над которым течет река.
Река текла, текла, никак не кончалась. Двойной изгиб Влтавы захлестывал горло, становилось нечем дышать, давило виски. Но проснулась она от взгляда теплого и светлого, направленного прямо на нее. Госпожа Малгожата стояла посреди комнаты на своих ногах, без палочки, одной рукой опираясь на спинку высокого дубового стула. Эла с любопытством разглядывала ее – старческий пух волос, выцветшие в голубизну глаза с серыми искорками, перевитые венами крупные кисти рук – похожа до мелочей. Да что там похожа, это она и есть. Абсолютно живая, теплая, только почему-то не обнимает, не идет навстречу. Не удивительно, что пришла, они же много о ней говорили. Но голос самой Элы сейчас шел словно из-под глубокой воды, медленно, путано, тяжело:
– Почему ты здесь? Зачем ты пришла?
– Попрощаться.
– Да, правда. Ты умерла без меня.
– Ты обещала приехать в субботу.
– Я и приехала в субботу. А ты умерла в ночь с пятницы на…
– На субботу. Ты приехала поздно. Я же просила совсем немного любви.
Будильник не сработал потому, что суббота, догадалась Эла, снова проваливаясь на дно. В комнате стоял сумрак, затекающий через окно молочным светом октябрьского хмурого дня. Трекер на руке подмигнул белой циферкой. Еще только семь часов, а все же такой туман. Она заснула снова, в надежде, что дурной сон развеется.
И разверзлись хляби небесные, как будто визит на кладбище и к родным, а после поминовение обрушили плотину где-то там, на небесах. Сквозь сон и мигрень она успела заметить, как под самым потолком, на обоях в голубой мелкий цветочек, принялось отмокать пятно, змеиться по шву все ниже.
И зеркало под ним потекло, поползло, грянулось о секретер, раскололось, погасло.
Наутро на деревянном полу она собрала осколки амальгамы. Это было нечестно – она еще не съехала, а дом начинал мстить за предательство, за измену. Рама осталась целой, но на стене за нею, на прежнем месте портала, зияло черное пятно отмокшей штукатурки и бумаги в мелкий цветочек. Наутро явление госпожи Малгожаты объяснилось всего лишь сном, даром, что была такой плотской – потянись и обнимешь. Куда ночь, туда и сон, как сама же бабка учила маленькую Элу. Взяла полотенце промокнуть обои, глянуть на масштаб разрушений – и бумага в цветочек под ее руками так и сползла пластом. И некоторое время Эла, задумчиво стоя на стуле, наблюдала за отсыревшей штукатуркой натуральное дупло в стене, серое, как прошлогоднее осиное гнездо. Там, за лоскутами бумаги и кусками побелки, что-то лежало. В общем, надо было позвать кого, хоть плотника, чтоб заделали дыру в стене, но со всей глупостью протянула руку, взяла.
Обычная жестяная коробка из-под итальянских amoretti di saronno, Малгожата любила такие печеньица. И в этой держала какую-то старушечью драгоценную мелочь, бархатный мешочек, ручка, наперсток, на разрозненных листочках… что? Это не было похоже на дневник. Ни единой даты, но разным почерком, на разных клочках бумаги, верхний лист написан твердо, узнаваемо, эти ее остренькие кончики «и» и «т», проваливающееся со строки «м». Нижние листы уже с поплывшими буквами. В черном бархатном мешочке ощущалась какая-то вещица, шуршала и елозила, требуя свободы. Еще прежде чем она выкатилась на ладонь, Эла знала, что это бабушкин перстень в виде эмалевого жука с телом из крупного молдавита. И правда, она последний раз видела его… давно видела. Мать перерыла все в Брно и тут, утверждая со слезами на глазах, что госпожа Малгожата завещала положить кольцо в гроб. Горе ее, впрочем, выглядело вполне искренним.
Стало быть, не завещала, раз припрятала тут. Тяжелое вулканическое стекло, шершавость жучиной спинки, извращенная непрактичность арт-деко.
Нежданный, нежданный подарок.
Опустила кольцо в мешочек, мешочек в карман, начала читать, усевшись поближе к окну.
Похороните меня на другом берегу реки, головой на восток. А не то я приду по вас.
На другом? Какой реки? Речь шла о Крумлове? Теперь и не скажешь. Ее увезли в Вишнове, когда она хотела лежать здесь?
Я старшая, я всегда возвращаюсь. Когда это найдут, меня не станет, но я расскажу, как сумею. Я родилась liebe, как всякая старшая дочь моего рода.
Я родилась любовью? В любви? Почему она использовала немецкое слово, в роду немцев не было. Венгры – да что там от венгров и осталось, кроме фамилии? Чехи, евреи… немцев не было.
Самые питательные и легкие к добыче – жабки. Они глупы и легко приходят на то, что блестит. Но они мало помогают, если требуется зачатие. Для зачатия нужен хороший кусок, жирный. Родившая со свежим младенцем всего лучше. Еще годна понесшая в первых сроках. Посередке того содержимое горчит из-за веществ плода.
Бабушка рассказала мне это после того, как съела мою мать.
Некоторое время Эла тупо смотрела в стену, пытаясь осознать, что именно прочла. Госпожа Малгожата отчего умерла? Отказали почки. Токсическое отравление организма шло ведь куда раньше, такое в здравом уме не придумаешь, как это вот «съела». Читать дальше мгновенно расхотелось. Можно что угодно говорить о принятии, но быть невольной свидетельницей того, как разлагается личность любимого человека – такое себе удовольствие. Эла определенно не желала знать ничего подобного. Да и старая госпожа Молгожата вряд ли хотела обнародовать записи, раз уж замуровала, унесла с глаз долой, как мышь в нору. Человек на девяносто процентов состоит из мяса, на семь из химии и только на три – из того, что лживо называют душой. Из заблуждений, стало быть. Давайте сложим все обратно в коробку, закроем крышку, вернем в нишу в стене, разбитое зеркало сверху. Эле очень хотелось вернуть все как было, впихнуть день сегодняшний во вчерашние рамки, но оно не впихивалось, скрипело. И это никуда не годилось. Она ж психолог. Она может придумать десяток логических объяснений написанного старухой.
Может. Но ни одно, к сожалению, не подходило. В раздражении она так и сделала – сложила листочки в коробку и только кольцо почему-то, достав из кармана, задержала в ладони, а потом вовсе передумала убирать.
Что тут еще? Рисунок. Один, другой… на листах акварельной бумаги размером в половину писчей. Весьма откровенный стиль, и кто на них? Это точно не Малгожата, она ведь девятнадцатого года рождения. Кинула в шоппер клетчатый шарф, оба рисунка и мешочек с жуком, заперла двери, выскользнула на мостовую.
Мостовая! Крумловские камни каждый как леденец, повлажневший от дождя, обтаявший во времени, как кусочек шоколада, побелевшего от долгого хранения. Мостовую она любила стопами – ощущать, протирать, бродить. В арт-центр налево и выше, в музей – до Сворности, и за нею. Надо было сразу идти в Музей молдавита или в Старую пивоварню, где арт-центр – там бы посмотрели без дураков, но что-то остановило. Возможно, она просто купилась на вывеску «оценка антиквариата», ей хотелось уцепиться за что-то логичное и простое, чтоб сразу указали на отсутствие абсурда, на нормальность. Этой лавочки на Горни в прошлый приезд не было. Парень за прилавком напоминал богомола. Эла хитиновых не жаловала именно потому, что они казались ей уменьшенной расой инопланетян-захватчиков, и этот был именно таков. Высокий, очень худощавый, белесый, глаза навыкате, и покачивается, когда говорит:
– Дайте глянуть поближе… пани досталась интересная вещица, любопытно только, откуда? Такого влтавина я не припомню – игра, прозрачность, цвет. И никакой огранки. А каково художественное решение!
– Наследство, – коротко отвечала.
– А кто умер? – круглые глаза так и обшаривали с головы до ног.
– Давно умер. Умерла. Вот, вышел срок давности, и мне передали.
О том, что сам дом передал, предпочла не указывать.
– Такая странная штука это зеленое стекло. Страшно представить, что этой вещи четырнадцать миллионов лет. Господь еще не придумал род человеческий во всей его насекомой пакости, а оно уже было, плыло в небе, плавилось. Его больше не добывают, знаете? В Китае или на ебее вам продадут Просто Зеленое Стекло, хорошо, если бутылочное, но настоящее можно купить только здесь, у нас, – он широким жестом объял и крохотную лавочку, в которой мерцало привычное сочетание богемских гранатов с зеленым стеклом, и весь Крумлов в его барочной милоте.
– Но дело не в том. Самое в нем худшее, в молдавите, что он рушит привычный мир вокруг человека, он не для куриц. Я им его и не продаю, а если уж продаю – ну, это как дать отравы котеночку. Знаешь, что такой миленький, пушистый, игривый – и подохнет. Странное чувство. А ваш годный, из него можно много мелкого яду надробить, не желаете? Или целиком продать какой идиотке. А что у вас еще?
В общем, сразу понятно, он не местный. Местный не скажет всего того, что парень вылил на нее при первой же встрече. Молча выложила на прилавок оба рисунка.
– Однако! Какая интересная композиция. Пани, я вам доложу, пришла и радует. А это откуда взяли?
– Да все оттуда же. Я ошибаюсь или это Шиле?
– Он, Эгон. Шиле. Неплохой. И отменно порнографический. Но без провенанса в музей продать не получится.
– С провенансом проблемы. Я не знаю ни кто это, ни откуда эти рисунки оказались в семье.
– Тогда сложно, да. Рука тут ближе к семнадцатому году, я бы сказал, у меня глаз насмотренный, вряд ли восемнадцатый.
– В восемнадцатом они умерли от испанки. Вместе с беременной женой. И этот еще чудовищный его портретик посмертия, где все уже мертвые, кроме него.
– Да он вообще весь чудовищный, как по мне. А что до испанки, да, так говорили. Не от испанки. Была у него любовница, дама в самом соку. Ну и сожрала подчистую. Его и семейку всю. Это между нами, – и снова взгляд в упор прозрачных круглых глаз, – в Старом пивоваре вам такого не расскажут. Впрочем, это в зачет, я считаю, – он сам допубертатными девочками питался. Нарвался на более сильную самку своего вида и…
Подробности личной жизни Эгона Шиле даже и через сто лет после смерти – тот еще мешок с грязным бельем, поэтому Эла отделалась общим:
– Надо же. А казалось бы…
– А люди всегда не то, чем кажутся, дорогая пани. Не называть же своими именами все как есть. К слову, меня Йозеф зовут.
– Что? А… да.
– И, сдается мне, вы знали эту историю, раз принесли мне такое, – тут он пригляделся к рисункам и прибавил. – Но я бы на вашем месте не тащил в Музей Шиле подделку… нарисованную с вас. Они могут понять неправильно.
– Я что, похожа на человека, который попытается продать музею поддельную порнографическую открытку? Нарисованную с меня?
– Вы похожи на… – он опять кинул на нее долгий непроницаемый взгляд. – Нет. Как скажете. Дело ваше. А колечко я бы на вашем месте тут оставил, если не хотите проблем. Хорошую цену дам.
Но Эла поблагодарила, сгребла сокровища в шоппер, повернулась спиной, двинулась вон.
– С ним все начинает происходить очень быстро, – донеслось ей вслед, – я бы на вашем месте не торопился.
В Музей молдавита она не пошла, и так помнила, что нет в витринах ничего похожего на эмаль, форму, размах крыльев бабушкиного жука. Неведомый творец соединил в нем жуткую, дикую природу тектита со смертоносной красотой, так свойственной ар-деко. В общем, они тогда что-то понимали, предки, предчувствуя две гибельнейших войны. Для кого, интересно, была сделана эта вещица? Элу потряхивало после странного диалога и не менее странной претензии антиквара насчет подделки, и она, возвращаясь, постучала в окошко сувенирницы. Довольно странно, что все, за что она могла держаться в жизни, как за мужское – этот бравый по возрасту дед выпяченным вперед пузом, с пушистыми усами, желтоватыми от табака. Тот, который всегда скажет: «отдыхала давно?» или «хорошенькая какая сегодня».
– Дядя Карле, что это за тип нынче держит на Горни антикварную лавочку?
– Погоди, это где? Где раньше жила рыжая Анна с котами? Йозеф? Лупоглазый?
– Да.
– Он ей внучатый племянник. Странный парень. Или нюхает чего, или внутрь берет – не пойму, даже с абсента таким не станешь.
Прелесть маленького городка в том, что все о всех всё знают. Ну, почти.
Всего за один день выдалось уже как-то слишком много, хотелось разбавить. Раньше Эла пошла бы пить венский кофе с захером к «Писарю Яну», но сейчас порылась в багажнике, проверила спортивную сумку и направилась в Будеевице, в качалку. Иржи, как она прозвала джип, покорно вынес на шоссе. Иржи, по имени того бывшего, с кем выбирала когда-то. Хороший был человек, и любовник годный, разошлись, потому что родить Эла не могла, а он хотел детей. И скатертью дорога.
Дорога и текла скатерочкой без вышивки, нигде не запнешься.
Красавчик, скучавший на входе в фитнес, проводил ее взглядом. Платный тренер, любимец постоянных клиенток, умеющий ласково влезть в душу, добиться правильного сокращения ягодичной. Ну да, ну да, если ты в полдень в субботу в тренажерке, то тебе с кем трахаться. Правда, конечно, что и говорить, но его-то какое дело? Зеркало в раздевалке анфас показывало дряблость и провисание плечевого мяса, но весы оскорбили меньшей цифрой, чем раньше, несмотря на шкубанки. Велотренажер и орбитрек, то, что нужно. Прямо физически ощущаешь, как адреналин урабатывается, уходит из тела. Саунд-трек из «Братьев Блюз» отлично маскировал сторонние шумы. Красавчик-тренер заглянул в кардиозону, продефидировал меж тренажеров и обратно, продемонстрировав развитую ягодичную. Вот прямо такую бы и на гуляш.
На тело Эла просто так не западала, и это печалило. Она восхищалась, но потрогать не хотелось. Она любовалась движением, пластикой, тонусом мышц, пресловутыми кубиками пресса, объемом бицепса. Но белье от этого не промокало. Чтобы мясо стало мужчиной, нужно добавить нечто одухотворяющее – блеск в его глазах, свидетельствующий о наличии хоть какой-то души. Надо добавить желание. У нее в жизни была любовь и было желание, а теперь, в сорок пять, не осталось ни того, ни другого. Самый сок, что и любовь, и желание не были взаимны. Когда тебе двадцать, а мир тебя не берет, ты можешь отложить печаль на потом. К пятидесяти, мнится тебе, найдется человек, которому придешься по душе. А когда тебе в самом деле к пятидесяти, уже понимаешь, что это диагноз. Нет той души, которой ты была бы сродни, нет и желания, которое горело и сгорало бы только к тебе одной. Ты такая же, как все – внешне – но с глубоким изъяном кромешного одиночества внутри. Наверное, они все это чувствуют. Им нужно попроще.
Эла любила в качалке размен адреналина на эндорфин. Любила вспомнить, какие есть мышцы в теле, и какие из них еще не настолько старые и дряблые, как казалось. Любила, когда уходила боль и скованность грудного и шейного. Любила ощутить, что – может: взять этот маленький вес, поднять себя из того положения десять раз. Крохотные ожесточенные победы над тленом разрушения. А еще она любила усталость тела и то, как качалка заменяла в этом плане постель. Не нравились здесь ей только женщины. Мужчины создавали иллюзию участия в групповом сексе, особо если глаза закрыть – вот это дыхание их хриплое, срывающееся, ритмичное, вздохи, стоны, размеренные движения потных полуголых тел, и ты такая – да, да, да, пожалуйста, дарлинг, не изменяй мне со штангой. А женщины отчетливо бесили – не столько упругость форм, сколько явное выставление товара на продажу. Женщины были из тех, кто нес сюда свою праздность, телесную сытость, ленивую заезженность в постели. Большинство этих женщин было существенно проще нее в интеллектуальном плане – и у них были мужчины.
Как же осточертело-то разбиваться об это «с тобой мы поговорим об умном, а трахать я пойду кого попроще!». Эла умела быть другом, любовницей, матерью, психотерапевтом мужчине, но это ни разу не обеспечивало взаимности. Возможно потому, что ради призрака любви она готова была простить и то, что ее не любили. Возможно потому, что ей всегда было важно, что любит именно она – и возвышала она до своей любви существ, совершенно к ней непригодных и не стремящихся…
Так, стоп, сойди-ка с Голгофы и с орбитрека. Уникальная вещь крайне редко находит ценителя. Вот как тот же Шиле, в пятидесятые прошлого века продаваемый за бесценок. Ценителей на всех не хватает, и любой нормальный потребитель женского тела предпочтет простоту изломанности линий. А ты перевязала свои узлы, но переломы срослись неверно. Все, что тебе остается, как женщине, уже не имеет никакого отношения к мужчинам в постели, да и как друзья женщины гораздо надежней. И то, как она ненавидела молодых упругих дев – удивившись теперешней остроте этого чувства сама – не имело сейчас никакого отношения к соперничеству. Она ненавидела их за то время, которым они потенциально обладают, в котором действительно обладают ими. Она ненавидела их за собственную целомудренную юность. Она ненавидела их за фору, за молодость, за то, что они будут жить и оставаться молодыми после нее. Зачем им молодость? Они распорядятся ею бездарно, иное дело она, уже знающая цену утратам. О, если бы можно было извлечь из них избыточную жизнь, упиться ею, впитать, окрепнуть самой, пережить непережитое… она бы воспользовалась любым шансом утолить жажду и урвать у жизни желанное, прежде чем наступит зима. Если бы можно было делать это, не марая рук, не касаясь, да разве же бы она устояла? Ни в малой степени.
О проекте
О подписке
Другие проекты