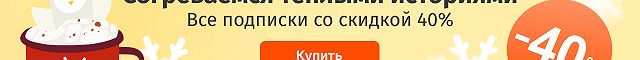
– Никогда не говори того, чего не знаешь! – его пальцы дрожали перед её лицом. – Я всегда любил твою мать и чтил её память. – Он замолчал, глядя в её широко раскрытые глаза, затем медленно опустил руку. – Прости… я не хотел…
– НЕНАВИЖУ! – закричала Мелл, и срывающиеся слёзы уже текли по щекам, когда она бросилась вверх по лестнице.
– Мелл! – окликнул он вдогонку, но она не обернулась. – Постой!
Эдвард стоял, пока её фигура не растворилась в коридоре, пока громкий хлопок двери не отозвался эхом в холле. Медленно развернувшись, он подошёл к стеклянному столику, где среди журналов лежали сигареты производства его компании – с пониженным содержанием никотина. Дрожащими руками он щёлкнул "Зиппо", затянулся и опустился в кресло, только теперь ощутив, как напряжены его плечи.
"Она несправедлива ко мне", – думал Мерцер, выпуская дым к потолку, хотя прекрасно знал, как миссис Уинторп ненавидит, когда он курит в доме. Даже хозяину она не делала поблажек в этом. "Я был хорошим отцом. Любящим мужем. Что бы она ни говорила."
Он не понимал, где допустил ошибку, когда она превратилась в угрозу для всего, что он с таким трудом создавал. Словно переполненный стакан, готовый пролиться от одной последней капли. Возможно, весь его мир – построенный сначала ради жены и дочери, потом только ради дочери – теперь балансировал на краю. И для окончательного крушения не хватало лишь этой самой капли…
Мерцер раздавил сигарету в пепельнице, стилизованной под перевёрнутого брюхом вверх краба – подарке сотрудников к юбилею. Не сказать, чтобы безделушка приводила его в восторг, но он научился ценить любые знаки внимания, даже самые нелепые.
– Мистер Мерцер?
Он обернулся на сонный голос. В дверном проёме стояла миссис Уинторп – невысокая, шестидесятилетняя экономка, закутанная в ночной халат.
– Стив разбудил меня… Всё в порядке с Мелл?
– Мелл… – начал он, но, заметив мгновенную тревогу в глазах женщины, ставшей почти членом семьи, поспешил добавить: – С ней всё хорошо. Просто подумал, что ей не помешает горячая ванна и чашка чая. Простите за столь ранний подъём.
– Да что вы! – миссис Уинторп махнула рукой, приближаясь. – Ради Мелинды я готова пожертвовать любым сном, даже самым сладким.
– Благодарю вас.
– Всё будет готово через пятнадцать минут, – пообещала она, уже поворачиваясь к двери.
– Миссис Уинторп! – Эдвард задержал её. – Не могли бы вы, после того как наполните ванну, подняться к ней?
Экономка сделала шаг назад в холл, мягко покачав головой:
– Конечно, мистер Мерцер. Но, пожалуй, это должны сделать вы. Думаю, она ждёт именно вас.
Уголки его губ дрогнули в смущении. Сам же он промолчал.
Миссис Уинторп ответила тёплой, материнской улыбкой и удалилась, оставив его наедине с тяжёлыми мыслями и тикающими настенными часами.
7.
Мэри Рирдон, двадцатидвухлетняя студентка факультета высшего сестринского образования, обладательница огненно-рыжих волос и скромной россыпи веснушек на переносице, жила по простому принципу: не задавай вопросов о чужой личной жизни – и тебе отплатят той же монетой. Это правило создавало вокруг неё лёгкий ореол замкнутости, но до статуса изгоя не опускало. Её секрет заключался в природном обаянии – Мэри умела расположить к себе любого. Именно поэтому её неизменно выбирали представителем группы на всех студенческих мероприятиях. Преподаватели ценили её ответственность и активность, а однокурсники охотно перекладывали на её плечи все организационные хлопоты.
Сама Мэри считала, что у неё нет друзей – только приятели. Но какие! Одни звёзды кампуса: популярный диджей Джим Роквелл, слегка поблекшая надежда университетского бейсбола Майк Доннахью, талантливый, харизматичный и чертовски красивый Уолтер Кэмпбелл, светская львица, наследница миллиардного состояния Мелинда Мерцер. Эти люди составляли её ближний круг, с которыми она отправлялась в летние путешествия по живописным уголкам страны. И нынешний год не должен был стать исключением.
Её комната в общежитии отличалась от других лишь безупречной чистотой. Привычку к порядку Мэри выработала с детства – не благодаря матери, как большинство девушек, а из-за отчима. Хотя Тадеус Гришам вовсе не был добрым наставником. Жестокий тиран, он искренне верил, что побои – лучший метод воспитания, а ласка только портит характер и не формирует стержень. Так он объяснял свои методы Инесс Рирдон, матери Мэри. Девушка же понимала истину проще: Гришам просто не способен был любить кого-то кроме себя, не имея ни малейшего представления об эмпатии.
Мать Мэри винила дочь в уходе отца из семьи, пусть и не говорила этого прямо. Девочка прекрасно это понимала – по тому, как постепенно угасала материнская любовь. Исчезли добрые ночные поцелуи, любимая глазунья по утрам, расспросы о том, как прошёл её день. Теперь воспитателю приходилось самой привозить Мэри домой – мать всё чаще забывала о ребёнке.
После таких визитов миссис Альварес подолгу беседовала с Инесс на кухне, а маленькая Мэри, притаившись в комнате, ловила обрывки фраз. Воспитательница настаивала – девочке нужна заботливая мать, и если Инесс не справляется, стоит обратиться в опеку. Услышав это, женщина начинала рыдать и умолять не забирать ребёнка. Миссис Альварес в итоге уступала, говоря, что пусть уж лучше дома, чем в приюте, и уходила.
На две-три недели Инесс превращалась в образцовую мать, но затем всё возвращалось на круги своя. Однако настоящий кошмар начался, когда мать впервые пришла домой пьяной. Шестилетняя Мэри до сих пор помнила тот вечер – за полночь двое незнакомцев принесли бесчувственную Инесс и бросили на коврике с надписью "Добро пожаловать". Девочка, не сумев перенести мать на кровать, подложила ей под голову подушку, сняла туфли и пальто, укрыла одеялом. Ту ночь Мэри тоже провела на полу – казалось неправильным спать в постели, когда мать лежит под входной дверью.
Новым ударом стало увольнение Инесс с кожевенной фабрики. Теперь она целыми днями сидела дома, но внимания дочери не прибавилось. Вместо этого в квартире начали появляться мужчины – сначала по вечерам, потом и днём. По выходным мать либо отправляла Мэри "погулять", либо приказывала не выходить из комнаты. Девочка научилась тихо сидеть за дверью, прислушиваясь к пьяному смеху и звону бокалов, пока её детство медленно утекало сквозь пальцы, как песок в перевёрнутых часах.
Мэри запомнила тех мужчин по запахам. Одни несли на себе тяжёлый шлейф пыли с примесью чего-то горького (позже она узнает, что это был запах марихуаны). От других разило перебродившими фруктами – такой же кисловатый дух исходил от матери в те дни. Третьи источали едкий аромат пота, слегка приглушённый дешёвым дезодорантом.
Весенним пасмурным днём, когда Мэри исполнилось двенадцать, Инесс неожиданно привела домой незнакомца. Девочка насторожилась, но, увидев, что оба трезвы, а на лице матери играет давно забытая улыбка, немного успокоилась.
– Это Тадеус Гришам, – объявила Инесс. – Твой новый папа.
Мэри пробрала дрожь – не столько от этих слов, сколько от слащавого, детсадовского тона, каким мать их произнесла.
Конечно, мысль о чужом человеке в доме пугала её. Но радость перевешивала – впервые за много лет их жизнь начала напоминать нормальную. Даже подаренная Гришамом кукла (явно бывшая в употреблении и уже не подходящая по возрасту) вызвала у Мэри искренний восторг. Она горячо поблагодарила отчима, стараясь не гадать, откуда эта старая игрушка и кем была её прежняя хозяйка.
От Тадеуса, как и от родного отца, пахло древесиной – этот знакомый аромат успокаивал. Но к нему примешивался резковатый запах дрожжей. Как выяснилось позже, Гришам был страстным любителем пива и поглощал его в огромных количествах, оставаясь при этом трезвым.
Вскоре о Мэри снова забыли. Вспоминали лишь тогда, когда нужно было убраться (Гришам терпеть не мог беспорядок), сходить в магазин (в основном за пивом и вяленым мясом) или постирать одежду. Отчим работал плотником, но брал заказы лишь изредка, предпочитая целыми днями сидеть перед телевизором, сжимая в мясистой лапе очередную банку. Он почти не замечал девочку, односложно отвечал на редкие вопросы Инесс и чаще разговаривал с экраном, чем с близкими.
Но почти каждую ночь сквозь тонкую стенку доносились скрипы кровати и сдавленные стоны. Мэри зарывалась с головой в подушку, стараясь не думать, что там происходит.
Вскоре начались побои. Жестокие, методичные, без малейшего следа жалости. Любой пустяк становился поводом для расправы: недостаточно холодное пиво, остывший ужин, едва заметная складка на выглаженной рубашке. Кулак или раскрытая ладонь обрушивались на девочку с такой силой, что мир перед глазами погружался во тьму, в ушах стоял оглушительный звон, а по лицу растекалась горячая волна боли. Если она осмеливалась заплакать – наносились новые побои.
Безразличие матери, которая и сама регулярно получала от Гришама, заставило Мэри действовать. В четырнадцать, не дожидаясь переломов или серьёзных травм, она сбежала. Сначала из дома, затем из Эпсона, а через три недели – и из Теннесси.
Три недели она шла вперёд, мысленно представляя, как с каждым шагом расстояние между ней и домом увеличивается. Эта мысль придавала сил. Без денег, без запасной одежды, без знакомых, к которым можно было бы обратиться, она двигалась на запад. Когда голод становился невыносимым, стучалась в случайные дома. Одни хлопали дверью, грозясь вызвать полицию. Другие – чаще пожилые женщины – пускали внутрь, кормили горячим, разрешали помыться, дарили поношенную, но чистую одежду. Они расспрашивали, и Мэри честно рассказывала свою историю. В ответ она получала покачивания головой и тяжелые «охи», предложения вызвать социальные службы, однажды даже приглашение остаться навсегда. Но она неизменно благодарила и уходила.
Однажды ей открыл одинокий мужчина, после рассказа – кто она и чего хочет, – он предложил ей ужин и ночлег. Мэри отказалась. Было что-то неправильное в его взгляде и позе. Сегодняшняя Мэри была несказанно рада принятому решению своей более юной версии.
На шоссе у западной границы штата перед ней остановился подержанный, но ухоженный Ford. За рулём сидел парень, выглядевший едва ли старше совершеннолетия. Мэри открыла пассажирскую дверь:
– Подвезёте? – спросила она, глядя ему прямо в глаза.
– Куда путь держишь, детка? – Парень оценивающе окинул её взглядом, задержавшись на потрёпанной одежде и худенькой фигурке. Сам он был одет в выцветшие джинсы, потрёпанные кеды и серую майку, обтягивающую узкие плечи и крепкие, привыкшие к работе руки.
– Мне всё равно. Куда вам – туда и мне.
Его взгляд изменился – теперь в нём читалось заинтересованное любопытство.
– Забирайся. – Он кивнул в сторону пассажирского сиденья. – Только учти, я в Омаху. Тебя это устраивает?
– Вполне.
Дверца захлопнулась, старый «Форд» взревел двигателем – выхлопная труба явно требовала ремонта. Парень ловко влился в поток, пристроившись за грузовиком, гружённым сеном.
– Меня зовут Стэн, но друзья кличут Сьютом. – Он небрежно закинул левую руку за подголовник, управляя машиной одной правой. Эта самоуверенность почему-то заставила Мэри улыбнуться. Парень был симпатичным, с волевым подбородком и насмешливыми глазами. И, что важнее, казался настоящим – не таким, как те мужчины, что приходили к её матери.
– Я Мэри.
– Красивое имя. – Он ухмыльнулся. – Тебе подходит.
Комплимент был дешёвым, но от этого не менее приятным. Впервые в жизни Мэри почувствовала, что кто-то видит в ней человека, а не невидимку или обузу.
Он привёз её на ферму где-то на окраине Омахи. Стэн предложил пожить у них пару дней. Отец его оказался молчаливым, но добродушным мужчиной с потрескавшимися от работы руками. Мать же встретила Мэри с холодной настороженностью – взгляд её скользил по потрёпанной одежде и худобе, словно читая между строк всю её историю.
Через день женщина не выдержала.
– Ты думаешь, я не вижу, что ты за птица? – Она схватила Мэри за руку, когда та выходила из ванной. – Мой сын не для таких, как ты. Ищи простаков в другом месте.
Обида жгла горло, но хуже всего было видеть, как Стэн, стоя в дверях, не сказал ни слова.
Таким образом, Мэри снова отправилась в путь, у которого пока не было конца.
Ее скитания длились еще около двух месяцев. Города сменяли друг друга, пока дорога не привела ее к дверям приюта для девочек при монастыре. Там она осталась на следующие четыре года.
В один из первых осенних дней Мэри получила письмо от матери. Сама мать разыскать ее не могла – значит, не обошлось без помощи матушки-настоятельницы.
«Сожги его», – шептало внутри. «Не давай ей шанса снова тебя ранить».
Но настоятельница мягко положила руку ей на плечо:
– Прочти. Потом решай.
Конверт дрожал в пальцах. Гнев, страх, любопытство – всё смешалось в один комок.
Она разорвала край.
Конверт пах пылью и чем-то лекарственным – точно так же, как пахло в кабинете школьной медсестры. Буквы плясали перед глазами, но фразы врезались в память с пугающей четкостью.
Мать писала, что ей плохо без дочери, и умоляла вернуться. Тадеус Гришам к тому времени уже был мертв – его застрелили полицейские. После побега Мэри отчим полностью переключился на Инесс Рирдон. Он избивал ее ежедневно, пытаясь сделать "послушной женой".
Соседи вызвали полицию лишь через два часа после начала криков – вероятно, когда стоны Инесс окончательно помешали их вечернему отдыху за просмотром телевизора. Позже они уверяли журналистов, что давно собирались позвонить, так как крики в этом доме раздавались постоянно. На вопрос, почему не сделали этого раньше, внятного ответа не последовало.
Увидев мигалки у дома, Гришам в панике схватил охотничье ружье. Когда в дверь позвонили, он выстрелил без предупреждения. Пуля смертельно ранила офицера – тот скончался по дороге в больницу. Его напарник в ужасе отступил к машине, вызывая подкрепление.
Двадцать минут спустя дом окружили. Штурмовать не решались – Гришам держал Инесс в заложниках, пиная ее в спину и заставляя кричать: "Я не шучу! Попробуйте войти – и она умрет!".
Лишь через три с половиной часа переговоров спецназ взял дом штурмом. Отчим успел ранить еще одного полицейского в ногу, прежде чем его самого накрыло огненным шквалом.
«Мне так плохо без тебя… Вернись, пожалуйста».
Словно кто-то вывернул ей желудок. Пальцы сами сжали бумагу, но глаза упрямо бежали по строчкам:
«Перед смертью он сломал мне позвоночник. Соседи вызвали полицию слишком поздно. Теперь я в доме престарелых. Мне некому даже подать стакан воды».
Последняя фраза была подчёркнута с такой силой, что чернила прорвали бумагу:
«Ты ведь не бросишь меня?».
Мэри швырнула письмо на пол. Оно легло белым пятном на тёмные половицы.
– Она вспомнила обо мне только теперь?! – Голос сорвался на хрип. – Когда сама стала беспомощной? Когда ей некому даже сменить подгузник?!
Настоятельница молча подняла письмо, аккуратно сложила. Её морщинистые пальцы касались бумаги почти с нежностью.
– Прощение – великая сила, дитя.
– Нет. – Мэри вскочила, опрокинув стул. – Она не заслуживает прощения. И не заслуживает меня.
Два месяца она носила эти слова в себе, как занозу. А потом, в туманное утро, когда монастырь ещё спал, собрала рюкзак.
Полгода странствий по чужим городам и два пересечённых штата – и вот она в Массачусетсе. Год спустя – студенческий билет Бостонского университета в кармане. Казалось бы, годы скитаний и изломанное детство должны были оставить след, но Мэри училась с неожиданной лёгкостью, даже с удовольствием. Теннесси, Омаха, все прежние лица – всё это осталось где-то там, в другой жизни, о которой она не жалела ни секунды.
Но прошлое, как назойливый тень, всё же настигло её – не в событиях, а в их последствиях. Мужчины теперь существовали где-то на периферии её мира, за высоким барьером недоверия. Даже дружеские отношения она выстраивала с осторожностью, словно расставляя предупредительные знаки: "Дальше – опасно". Первое время находились смельчаки, приглашавшие на свидания, но после серии вежливых отказов они переключались на более доступных девушек, оставляя Мэри в роли "хорошего приятеля".
Ирония заключалась в том, что теперь никто не стоял над душой, требуя безупречного порядка. Но привычка, въевшаяся глубже сознания, заставляла её по-прежнему раскладывать всё по полочкам. Особенно когда появлялось свободное время. Соседкам по комнате она мягко намекала на необходимость соблюдать чистоту. Фэй Андерс воспринимала это с пониманием, а вот Барбара МакОлифф…
Барбара жила в вечном вихре вечеринок и флирта. Её угол комнаты напоминал поле боя после нашествия варваров – тюбики помад, флаконы духов, кружевное бельё… Сколько раз Мэри пыталась до неё достучаться – всё безрезультатно.
Сегодняшний день не стал исключением. Чулки, сброшенные под кровать, стремительное облачение в мини-юбку – и Барбара уже мчалась к двери.
– Барбара! – голос Мэри прозвучал как щелчок бича.
– Ой, прости-прости! Фред ждёт! – даже не оборачиваясь, бросила та.
– Нам нужно…
– Всё обсудим вечерком! Целую!
Захлопнувшаяся дверь, та оборвала разговор на полуслове. Как всегда. "Вечерком" Барбара либо валилась с ног от усталости, либо возвращалась на рассвете, пахнущая алкоголем и мужским парфюмом.
Мэри сжала кулаки, представляя, как собирает весь этот бардак и отправляет в мусорный бак. Прекрасная фантазия, но слишком опасная – в гневе Барбара напоминала разъярённую фурию.
Минуты тянулись, пока Мэри стояла, впиваясь взглядом в хаотичное гнездо соседки. Руки сами тянулись навести порядок, вопреки голосу разума. Она так и не призналась себе, что эта маниакальная тяга к чистоте – эхо прошлого. Эхо, оставшееся от Тадеуса Гришама.
8.
Джим Роквелл лежал на кровати в своей комнате кампуса, одетый и обутый, безучастно наблюдая за новостями CNN. Его сосед Бак Ноулз, такой же студент-стоматолог, уже как час отсутствовал – наверняка зависал у своей подруги. Как обычно, он вернётся под утро и проспит до вечера.
Час назад Джим принял душ, заказал пиццу c ветчиной и после плотного ужина решил заглянуть к соседям за парой DVD. За дверью явно курили – и явно не табак. В ответ на стук послышались приглушённые голоса, кашель и настороженный вопрос:
– Хто там?
– Полиция! – пробасил Джим. – Лейтенант Коломбо, отдел по борьбе с наркотиками.
– Коломбо работал в криминальном, идиот! – раздался узнаваемый голос Фреда Берда, теперь уже уверенный. Дверь открылась, выпуская клубы дыма. – Чего надо, Джим?
Бесплатно
Читать книгу: «Запертые двери»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
Другие проекты