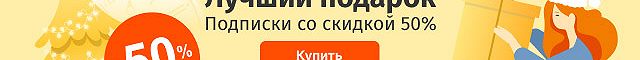
Григорий Марк
Четыре времени ветра
© Текст. Марк Григорий, 2020
© Оформление. ООО «Издательство АСТ» 2020
Четыре времени ветра
…и соберут избранных Его
от четырех ветров.
Зима
Маленький, обозленный ветер – не ветер даже еще, а поветрие, первое поветрие наступающей стужи – зернистою изморозью стягивал растрескавшиеся губы, тугой холодной спиралью пеленал, обматывал голову. Расплющивал слезы в хрупкие пластинки, вдавливал их обратно в глаза.
Этот день был горящим ручьем в черно-белой зиме 56-го, ручьем из зажженных свечей, сливавшихся в длинное пламя.
Выходили без шапок, растерянные, потные, из темной часовенки в расплывы тусклого солнечного света, размноженного миллионом снежинок. Идти было трудно, земля выгибалась, скользила у них под ногами. И прозрачный звон качался в расщелинах неба, заросшего льдом.
Из узкого прямоугольника двери под куполом с перебитым крестом било пламя. Стекало по ступенькам, усыпанным солью c опилками. Переливалось, змеилось по угреватому от фабричной копоти насту между иероглифами хрустальных сучьев, между стершихся позолоченных слов на плоских камнях и упиралось в другой, страшный прямоугольник, обведенный жирною рамою из желтых комьев. Четверо бородатых, со сверкающими, стеклянными лысинами, стояли по углам, расставив ноги и тяжело опираясь на воткнутые в землю заступы.
Красный граненый ящик, словно кусок спрессованной крови, проплывал над горящим ручьем. У тех, что шли впереди, пылали отмороженные лица. Холод, спустившийся с неба, тонкими иглами входил в их тела, ломался в промерзших венах. Тени цеплялись друг за друга, опускались на дно, белое дыхание идущих – видимая часть притаившихся душ – висело над ними.
И нахохлившиеся грачи, веками охраняющие здесь каменные плиты, смотрели на них в упор, вцепившись в чугунные ограды трехпалыми когтистыми лапами.
Они шагали, наполненные скорбным бесчувствием, – так и будут они теперь шагать через всю мою жизнь, – с трудом отдирая от изъеденных ржавчиной решеток мгновенно примерзавшие к ним голые зрачки. Вытягивали перед собою разбухшие рукавицы, в которых бились рваные клочья огня, не дававшего света. И молчание их было как обледеневший наст, застилавший, выравнивающий землю вокруг.
Последним брел, тяжело спотыкаясь о корявые тени, торчавшие из снега, шестнадцатилетний человек в беззащитно коротком драповом пальтишке. У него еще не было ни знания, ни памяти. От камней с позолоченными словами – словами, слишком большими для жизни, – шел тихий свет, и те, кто лежали под ними, опускались все глубже в холодную почву. Завывал, раскачивая пламя в руках, голосил уныло и страстно сразу со всех сторон порывистый ветер. Острыми кристалликами снежного солнца царапал щеки, обжигал, застревал хрипеньем в простуженном горле.
Тело его продолжало идти по скользкому насту, но сам он продолжал стоять неподвижно в часовенке с забитыми окнами, стиснутый многоголовою распаренною толпою. Перед взором его качались согнутые спины, но видел он лишь раздувшееся лицо с подвязанной челюстью на белом атласном изголовье. И лицо это было как сургучная печать на ящике, увитом металлической зеленью с черными лентами. Одинокая лампочка свисала на голом шнуре. И выше, по куполу, написано было над нею: «Буду плакать я перед Господом». Дремучий священник, окруженный густою безблагостной тишиною, скороговоркой отпускает душу. Кладет в ладонь уходящему дощечку с разрешительной молитвой. Тоненькая страдальческая жилка бьется у него на шее. Серебристая тень промелькнула над только что заколоченным ящиком – и исчезла сквозь невидимую щель в куполе. Намертво зажав в кулаке свою подорожную, плывет к выходу незнакомое тело, ограненное красными досками. Плывет туда, где должно истончиться, исчезнуть все бывшее плотью.
Ручей и внутри него сгорбившийся человек в драповом пальтишке, без шапки, с волосами, поседевшими от инея, стекали в широко распахнутую дверь, обозначенную желтыми, со слюдяными прожилками комьями. Не в дверь даже, а в дверной проем, который охраняли четверо вооруженных огромными заступами стражников в замызганных ватниках с торчащими из карманов бутылками.
Над ровным, будто гашеною известью выжженным полем, над плитами, облицованными инеем, плыл воздух, хранивший форму красного ящика. Светился скол тусклого неба, наполненный оловянным солнцем. Голосил, надрывая связки, метался зигзагами ветер. И окаменелый дым из кирпичной трубы, правильной безнадежностью проткнувшей насквозь горизонт, стелился вдали над городом, над краем всего, что было.
Не могу понять, почему даже сейчас, через столько лет, мне становится так одиноко, когда вспоминаю об этом?
Весна
Шли, нагруженные бутылками, по прозрачному лесу, раздвигая густой частокол из солнечных лучей и смахивая с лица паутину. И женщина, в теле которой жил ребенок, шла вместе с ними. Вокруг шелестели березы, гордо выпячивали перед ними свои зеленые животы на запеленутых черно-белою берестою стволах. Серебристая веселая речка плавно кружилась среди белобрысых лопухов, хвощей и крапивы, обнимала блестящими излучинами валуны. И журчание речки казалось прерывистой речью – захлебывающейся речью недавно воскресшего леса.
Расположились на лужайке, окруженной кустами, у самого берега Медного озера. Его белая кромка и заросшие камышами топи были уже оплавлены утренним солнцем. На маслянисто-темной воде уютно плескались цветные пластинки. Одинокая лодка без гребца и без весел качалась в покрытом патиной купоросовом зеркале между сбившимися в тучи клочьями тьмы. Над ней, как одноглавый герб в толще балтийского неба, парил, распластав свои хищные крылья, неподвижный ворон.
Расстелили клеенку, бутылки расставили, открыли консервы. Чьи-то голые руки бросали сверкающий хворост в костер, с ворчливым кряхтеньем и оханьем ворочавшийся с боку на бок. Постреливали во все стороны красно-синие головешки. Мне они казались обугленными кусками фраз, которые я повторял про себя, пока они не сгорели и я не выбросил их в этот костер. Слышно было, как подбираются к клеенке ветвистые тени в дымных одеждах, как подминают они на своем пути белые взрывы одуванчиков, переплетенные темные запахи вереска и влажных корней.
Уселись, неторопливо раскуривая в пригоршнях предстоящее молчание. Словно чувствовали уже ту боль, которую я не успел еще причинить. Женщина, в теле которой жил ребенок, сидела рядом со мною. Жужжащий нимб мошкары проступил над ее головой. И я не мог к ней прорваться сквозь сгущавшуюся тишину.
Чувство вины и моя неуклюжая благодарность смешивались с беззаботным нетерпением перед тем, что должно наступить всего через несколько дней. Так, наверное, верующие в последний момент перед смертью, забывая о прошлом, ожидают вступления в подлинную жизнь.
Тень державного ворона проплыла по мокрой лужайке. Кусты орешника и бузины, окропленные солнечными оспинками, похрустывали вывернутыми суставами. Расправляли лениво свои набухавшие соками ветви. Гладили ветер листья-ладони. Промерзшая чернота, накопившаяся за зиму в капиллярах, трубчатых перепонках, волокнах, высветлялась, выступала наружу тугими фиолетовыми припухлостями почек. Сплошная, тяжелая зелень с прочерченными внутри ее бирюзовыми стеблями мелко тряслась. И только один ярко-красный листок на самом верху, словно орден победы над прошедшей зимой, висел неподвижно.
Метались в клевере мухи, шмели, свисали с ветвей на невидимых нитях бледно-зеленые гусеницы. В траве, разделившейся на миллионы ярких острых травинок, сворачивался крохотными радугами утренний свет, ещене успевший отделиться от тьмы. Мерцали, переливались только что рожденные в росе головастики, личинки, инфузории. Великая безмолвная оргия взаимного оплодотворения творилась в зелени.
Но женщина, в теле которой билось два сердца, ничего этого не замечала. Она сидела с граненым стаканом в руке и, не отрываясь, смотрела в костер, словно что-то очень важное сейчас в нем догорало. Отблеск пролившегося вина стекал по губам. Я подумал, что глаза ее были слишком большими для лица.
Вдруг она неслышно произнесла мое имя. Я оглянулся – и, будто тупым напильником, по душе полоснуло воспаленною нежностью только что вскрывшихся почек. Вязкая густая тишина снова сомкнулась над моим именем, как болотная вода над камнем, идущим ко дну. И я то ли сказал, то ли подумал: «Обязательно напишу… сразу же…»
Молодой, неуемный ветер – добрый дух оживших от зимней спячки кустов – носился по лужайке, перемешивал вокруг нее крошево бликов и дрожащих радуг в росистой траве. Клейкие листики, просвечивавшие пульсирующей белизною, легко касались друг друга, замирали и снова разбегались, точно играли в свои зеленые пятнашки. Наблюдали за игрой, чинно рассевшись по веткам, усатые бабочки-однодневки, синие стрекозы, шелковые мотыльки, ошалевшие от солнца. Все это надо было запомнить. До мельчайшей детали. До прозрачных, с красными прожилками, крыльев-лепестков, аккуратно сложенных кверху. Не додумывая ни единого кружка на спине у божьей коровки, неторопливо ползущей по рукаву.
Не так-то просто будет привыкать к пустыне.
Я слышал дыхание женщины, сидевшей рядом, слышал ее влажный голос, но не понимал, что она говорит. Моя пустая телесная оболочка находилась среди живых кустов и радуг, рассыпанных в солнценосной траве, на берегу мреющего в утреннем свете озера. А сам я, уже отрешившись от прожитого времени, отрешившись от тяжести тела, поднимался в прозрачные горы. Закон всемирного тяготения – так же, как и все остальные законы страны, где я раньше жил, – здесь не соблюдался. Душа во весь голос пела от счастья, хотя и немного фальшивила. За все эти годы слух у нее так и не развился, да и мелодия была слишком трудной. А слов я не знал.
Вешний ветер, взметнувшийся следом за мною с лужайки, указывал путь. И нижний край неба расступался, как Красное море. Моя тяжело дышавшая тень наливалась темнотою, становилась все короче и все уродливее, забегала вперед, пыталась о чем-то предупредить. Потом опять начинала суетиться, петляла под ногами, замирала и терлась плоским телом своим о ветер.
И вот я достиг перевала. Далеко на юге проступила в небе узкая полость, похожая на внимательно прищуренный глаз без лица, поджидавший, когда я его наконец-то замечу. Потом вздрогнули жгуты свалявшихся туч и разлепились огромные веки. Медленно выгнулась синяя кайма зрачка, и в зенице небесного ока я увидел сквозь воздух, струящийся от жары, двухэтажные домики с плоскими крышами, огражденные низкими красными кустарниками, пологие купола, холмы, просвечивающие сквозь друг друга, и за ними пустыню, сияющую миллионом зернышек света, – голое тело обетованной земли. И время пошло. Медленно, как нигде, но пошло. Моя судьба начинала сбываться.
…достигнув перевала, продолжай восхождение… к себе, от земли своей, от друзей своих, от дома своего… в пустыне пути приготовьте…
Еще одна размытая длинная тень, незаметно выросшая за спиною, упрямо цеплялась за камни и тянула назад.
Небесный зрачок подмигнул неожиданно мне, как будто сообщнику, – потерпи еще несколько дней – и снова стал мутным, подернулся красною пылью. Горячий рассыпчатый свет пустыни сталкивался с обманным блеском Медного озера. Столб из двух перевитых свечений поднимал стремительно и бесшумно позолоченные тучи, сгрудившиеся над перевалом, расплющивал их по низкому небу. Светлый купол выгнутых туч, очерченный со всех сторон горизонтом, расширялся. И все, что я видел внутри, теперь было связано ритмом, ритмом дыхания и слов, ускользающим и возникающим снова, прерывистым ритмом, стучавшим в моей голове.
Перед тем как уйти, вытер тыльной стороною ладони струившийся пот и заставил себя оглянуться. Весь окоем разделился на половины. В одной колыхалось от края до края расплывшейся акварелью зеленое листвие, перерезанное сияньем берез и, внутри него, плавно изогнутой речкой, всю другую половину заполнило Медное озеро. И лодка, как прежде, плыла в рябом купоросовом зеркале.
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Четыре времени ветра», автора Григория Марка. Данная книга имеет возрастное ограничение 18+, относится к жанрам: «Современная русская литература», «Cтихи и поэзия». Произведение затрагивает такие темы, как «авторский сборник», «современная русская поэзия». Книга «Четыре времени ветра» была написана в 2020 и издана в 2020 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты
