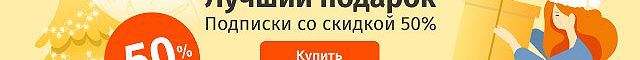
«Казанцы»
Вводная
В тот период в окрестностях Бадхызского госзаповедника, что располагался на самом юге громадного Советского Союза, гремела слава «казанских» ребят, пришедших к нам в Туркменистан по зову сердца после окончания биофака Казанского университета. Их вклад в науку и анти браконьерские меры и в те годы был неоценим, однако, к сожалению, и по нынешнее время не получил должной оценки. Говорю так уверенно потому, что сам состоялся как эколог и потом, после развала СССР, перенял эстафету природоохранников Бадхыза, создав собственную общественную инспекцию по борьбе с браконьерством, во многом благодаря их влиянию.
Те ребята поддерживали тесную связь с альма-матер, и оттуда, с Казанского университета, то на полевую практику, то в различные экспедиции часто приезжали студенты-биологи разных национальностей. Однако за ними всеми закрепилось прозвище «казанская братва», как отголоски более бурных событий в самой Казани того времени.
Упертый
Один из них, Саша Г-в, ходил в поселковый магазин, который располагался на порядочном удалении от конторы заповедника, … в шортах!
Дело было, подчеркну, в начале восьмидесятых в туркменском селении. Теперь-то никого здесь не удивишь шортами разного фасона, не напугаешь и мини-юбкой или пирсингом в обнаженных девичьих пупках. Хотя все же понадобится немалая толика смелости. А в те времена это вызвало эффект разорвавшейся в сонный полдень бомбы.
Местные ребята в следующий раз ненароком оказались у него на пути и провели воспитательную работу достаточно жесткими методами.
Так он потом все-таки еще несколько раз упорно ходил за покупками, сверкая коленками (иногда просто за одним – единственным коробком спичек – кто-нибудь, наверное, не забыл, что в советские времена коробок стоил одну (!) копейку). Осталось добавить, что при этом не забывал прихватывать с собой ружье…
Мы втихомолку посмеивались над его утверждением: «Если у тебя ноги красивые, почему бы их не показать!?».
И как вам такое высказывание? Еще раз акцентировать, что дело происходило в восточной стране, вдобавок в ее отдаленной периферии?
Юмор юмором, но при нем в качестве начальника служба охраны заповедника была грозой практически для всех «бреков» (браконьеров), невзирая на все ранги и должности, настолько неожиданные уловки применялись при планировании рейдов. К тому же сказывалась и понятная при его характере непримиримость в ходе задержания с поличным любых чиновников или близких знакомых и друзей разной степени взаимоотношений.
В качестве дополнительной красноречивой детали его характера: как раз в ходе нашего совместного полевого выхода в сердцевину заповедной территории, на кордон Кепели приехал пограничный наряд с единственной целью – сообщить ему, что одна браконьерская группа в таком-то районе собирается подкараулить Сашу и прострелить колеса машины или что там еще им удастся.
Здесь-то и наблюдал черту, которая совсем чуть-чуть свойственна и мне самому – лучше идти прямо на опасность, чем уклоняться от нее. Саша немедленно сорвался в указанный пункт, чтобы устроить засаду на тех, кто охотился на него самого.
По моим сведениям, в настоящее время Александр не знаю «как его по батюшке» ходит в высоких чинах в МВД Татарстана, прошел ряд «горячих точек», награжден государственными наградами Российской Федерации.
(очерк написан около 2007 года)
«Звали!?»
Следующая байка также родилась с непосредственным участием Саши Г-ва.
Однако в качестве «затравки» хотел предложить вниманию читателя небольшую игру слов. В народе широко известна старинная поговорка «незваный гость хуже не буду подсказывать кого». А мне, со свойственным своеобразным чувством юмора, всегда хотелось уточнить, когда кто-то в моем присутствии упоминал всуе это высказывание: «а если как раз татарин пришел как незваный гость? Как тогда?».
Частенько мои байки, даже коротенькие, получаются многослойными. Поэтому позвольте напомнить и другое известное выражение «мир тесен, шар круглый, всегда где-то найдется кто-то, знакомый не только тебе».
Теперь перейду к сути данного очерка…
В начале работы младшим научным сотрудником Копетдагского государственного заповедника, куда меня направили после окончания университета в 1991 году, первая же полевая экспедиция состоялась в район горной метеостанции, расположенной на макушке горы Душакэрекдаг Копетдагского хребта. Там-то и сначала познакомился, а в будущем и подружился с метеорологом Андреем Кравченко. Еще через какое-то время, узнав, что я родом из окрестностей Бадхызского заповедника, он вдруг сказал: «а я сам работал пару лет в том заповеднике».
Как, когда, и кем!?
Оказалось, что возле кордона Кызылджар, у восточной границы Бадхыза, много лет функционировала метеостанция, которую в середине восьмидесятых прошлого века закрыли из-за масштабного сокращения штатов. Поэтому я просто не был осведомлен, что она вообще существовала, так как в период моей собственной полевой практики в том заповеднике от метеостанции не осталось и фундаментов под кунги (вагончики на колесах).
Андрей также рассказал красноречивую историю, когда сотрудницы той самой метеостанции разыграли Сашу, изрядно достававшего их своими непрекращающимися и продолжительными визитами.
Так получилось, что он долгое время проводил какие-то охранные мероприятия на Кызылджарском участке заповедника и, естественно, рейдовая группа под его руководством базировалась непосредственно на указанном кордоне. Ну и как удержаться от общения, если рядом живут симпатичные хохотушки?
Вот Саша и повадился каждый день ходить к ним в гости на чай или что-то там еще, и проводил у них долгие часы и часы. Совершенно забывая или не задумываясь о том, что у тех у самих были каждодневные занятия, требующие продолжительного времени для выполнения. Или что им хотя бы надо элементарно выспаться после ночной смены – наблюдения на любой метеостанции ведь проводятся круглые сутки и в любую погоду.
Что дальше? Что случилось в очередное утро?
Проще передать слово самому Андрею: «я снимал данные с приборов на метеоплощадке, когда Саша двинулся от кордона к нам. И видел, как он подошел к двери вагончика, и уже поднял руку, чтобы ее открыть. Потом посмотрел вверх, почесал в затылке той самой поднятой рукой, развернулся и пошел обратно».
Оказывается, за ночь девушки нарисовали громадными буквами плакат с лозунгом «Прежде чем войти, подумай – нужен ли ты здесь?».
Туркменская народная мудрость, которую мои родители вбили с раннего детства, гласит: «чагырылмадык еринде – горунме» («не показывайся там, куда тебя не приглашали»).
Эти два утверждения – пословица и описанный лозунг, – у меня как слоган внутреннего употребления слились воедино в своеобразном сплаве с третьей поговоркой «семь раз отмерь, один раз отрежь». Десятки лет уже прошло с тех событий, и также давно, прежде чем невольно нарушить чье-то душевное спокойствие или вмешаться в личное психологическое пространство кого-либо, почему-то эти три высказывания сразу появляются перед мысленным взором.
Самолеты и практикантка
Никогда не находил особого смысла в известном шутливом утверждении «первым делом самолеты», но для дальнейшей затравки без него не обойтись.
На следующий год после первого своего «вхождения в заповедную жизнь», уже в 1989 году в деканате биофака Туркменского госуниверситета, в котором успешно учился, я напросился на прохождение полевой практики по индивидуальному плану в Бадхызском заповеднике. Естественно, как «свежую жертву», почти на первой неделе по прибытию меня пригласили посодействовать в обследовании территории с воздуха.
Даже просто летать в качестве обыкновенного пассажира на «кукурузнике» АН-2 достаточно утомительное занятие – укачает так, что только держись. Что уж тут говорить о такой страшной и ответственной процедуре, как авиаучеты, когда и внизу животные разбегаются от непонятного «стервятника», кружащегося прямо над их копытами и рогами, и организм не у всякого наблюдателя не взбунтуется почти сразу после взлета. А каждый вылет длится чуть ли не вечность, полных три-четыре часа. Не у всякого неопытного человека вестибулярный аппарат выдержит такое серьезное испытание. Соответственно, порой возникает единственное острое желание – откинуться бы назад с закрытыми глазами, а еще лучше распластаться на грохочущем полу с раскинутыми руками.
Ан нет – попробуй оторвать глаза от иллюминатора, если кулан с джейраном с высоты чуть крупнее мухи кажутся. Чуть моргнешь, и нет его! Ведь к тому же требуется не только подсчитать по возможности каждое животное, но и успевать сделать мимолетные заметки, отмечать место и время наблюдения животных…
Поэтому весь полет проходил таким образом – одним глазом безотрывно смотрел наружу, вторым искоса в планшет, так ведь еще быстрее тошнота цеплялась. Поэтому в ходе предварительного инструктажа перед взлетом нас заранее попутно и вскользь предупредили, где находятся особые пакеты: «Сами разберетесь, как и когда применить».
Так как у меня это был первый опыт, то начался вполне объяснимый легкий мандраж: не подведут ли глаза, сумею ли распознать животных (многих из которых к тому времени знал только по иллюстрациям книг), выдержит ли собственная голова. Поэтому, пока травили анекдоты у конторы заповедника в ожидании припоздавшей машины, которая должна была отвезти команду авиаучета к притулившемуся у края заросшей пожухлой травой взлетной полосы заброшенного Моргуновского полевого аэродрома самолету, все время поглядывал по сторонам для проверки глазомера. Может, именно поэтому бредущую вразвалочку в нашу сторону крепенькую невысокую девушку в слегка мешковатой одежде подметил первым из остальных будущих участников авиаучета. Вот так буднично состоялось мое первое знакомство с татаркой.
Взлетели с прыжками, толчками и шумом в ушах. Вся эта свистопляска не прекратилась с набором высоты. Хотя ее, надо подчеркнуть, и не пытались набрать, так и пошли бреющим полетом, впритирку к неровностям пейзажа. Сами понимаете, не тот случай при авиаучете животных, когда «высоко сижу, далеко гляжу». Меня настолько запугали инструктажем о прелестях «морской болезни» (или «воздушной»!?), о необходимости бороться с ней, чтобы не сорвать наблюдения, что первые полчаса – сорок минут держался, держался, боясь оторваться от иллюминатора и от мелькающих внизу животных.
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке
Другие проекты