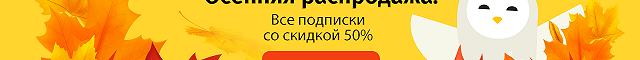
Песня третья
Доставайте из погребов,
Подымайте на белый свет
Грозное оружье боев,
Грозную стальную броню!
С древних лет я оружье ковал,
Для мести ожесточал,
Великими чарами заколдовал,
Так и рвется на битву оно…
«Нюргун Боотур Стремительный»
1. Мы едем в Кузню
Едем пятый день.
Мюльдюн все время молчит. Если я о чем-то спрашиваю, отвечает: «да», «нет» и «угу». Если этих слов не хватает – вообще не отвечает. На привалах оттаивает, делается настоящим балагуром:
– Костер разведи!
– Воды принеси!
– Садись есть.
– Ложись спать.
– Вставай!
И наконец:
– Сегодня на месте будем.
Я и не думал, что так обрадуюсь. Боязно? Конечно, боязно! Только я уже устал бояться. Страх плечи надавил, я его и скинул.
Лошадей нам дал дядя Сарын. Мой жеребчик, пегий коротышка, послушно следует за вороным здоровилой Мюльдюна. Цок-цок, будто на привязи. Понукать пегого не требуется, остается лишь глазеть по сторонам. Я и глазею – а что прикажете? Головой туда-сюда верчу. Вчера я спросил Мюльдюна, почему мы на облаке прямо в Кузню не полетели? Быстрее же, на облаке-то! «Да», «нет» и «угу» тут не годились, вот брат и промолчал.
Я ему ответ подсказал:
– Ты мне Средний мир хотел показать, да?
– Угу.
Поговорили.
Когда мы из поселка выехали, я всё различия высматривал. Должна же ихняя земля от наших небес чем-то отличаться?! Много не высмотрел, врать не стану. На лугах трава по пояс. Ручей по камушкам звенит. Утки над рекой. Берега в осоке. По склонам гор – сосны да ели. Лиственницы еще. Вершины в дымке тают. Где люди живут, там юрты стоят. Здешние, правда, свои юрты белой глиной не мажут. Нету ее поблизости, вот и не мажут.
Вот скала – черная, блестит сколами.
– Мюльдюн, а Мюльдюн!
– Да?
– У нас на Небе такие скалы есть?
– Угу.
Лес в буреломах, не проберешься. Деревья мхом поросли, сыростью от них тянет. Под деревьями – сумрак, и хрустит в нем. Плохо хрустит, зловеще. Про лес я даже спрашивать не хочу. Зачем нам такие леса? Снова на приволье выехали: уруй-уруй! Речка по порогам скачет, пыль водяная в воздухе висит. Радуги перемигиваются – красота! Рощи березовые, светлые. Реки-змейки: вьются, серебрятся под солнцем. На дубравах шапки кучерявые.
Осьмикрайняя, ты чудо!
Меня как подслушали. Горы сгорбились, присели на корточки. Назвались сопками, подкрались ближе, окружили. Сосны – редкая рыжая щетина. Трава выгорела, пожухла. Облака в ржавчине. И воздух гарью пахнет.
– Мюльдюн, а Мюльдюн!
– Да?
– У нас на Небе такая гарь есть?
– Угу.
Шутит Мюльдюн. Такого у нас на Небесах точно нет!
По берегам ручьев не растет ни былиночки. Вода – бурая мутная жижа. Пузыри лопаются, воняют. Ручьи слились в речку, вдоль нее мы и едем. Река виляет, и впереди, в излучине, нате-здрасте – дом. Ну и дом! Домище, в два раза больше нашего. Сплошные углы, стены громоздятся друг на друга. Сколько их всего? Тридцать? Сорок?! Крыша из железных полос, покрытых окалиной. Уложены полосы вкривь и вкось. Местами окалина, как короста, отвалилась, и под ней тускло блестит металл.
Дом дрожит. Так дрожит горячий воздух в полуденную жару. Постройка то расплывается, то вновь собирается воедино, становясь неправдоподобно четкой. Стены норовят пуститься в пляс, каждая сама по себе. В окнах полыхают отсветы: багровые и синие. Из шестигранной блестящей трубы извергаются клубы густого дыма. Под крышей гремит гром. Лязг, уханье, земля трясется под ногами. Мой пегий беспокоится, стрижет ушами. А вокруг-то, вокруг! Всё измарала жирная копоть. Река несет хлопья сажи. В земле зияют угольные провалы. Дыры, глубокие ямы, а может, пути в Нижний мир, они курятся вонючей дрянью. Из дальних вырываются охристые языки пламени. Темнеет быстро, хотя до вечера еще далеко. Я задираю голову к небу, желая узнать, где сейчас солнце, и едва не вываливаюсь из седла. Солнце скрыли тучи, а небо – серо-стальное колесо! – ой, караул!
– Мюльдюн, а Мюльдюн!
– Да?
– Там наше небо…
– Знаю, – мой брат расщедрился на новое слово.
– Оно вращается!
– Угу.
– Почему?
– Три Мира.
– Что Три Мира?!
– Они тут сходятся.
– Но ведь крутится! Вертится!
– Это обод, – говорит Мюльдюн.
Косится на меня, жалкого балбеса, и уточняет:
– Обод Нижнего неба.
Голова у меня крепкая. Вот, уже не кружится. Но еще долго, не в силах оторвать взгляда, я смотрю на стремительное вращенье небесного обода. Меня засасывает туда – не домой, к папе с мамой, а в кромешную вертлявую прорву. Когда же я возвращаюсь к делам земным, то вижу стократ худшее зрелище.
Ой-боой! Ой-ё-ёй!
От ужасного дома к нам бежит здоровенный черный адьярай!
2. Разве ж это брат?
Плохой адьярай. Плохой адьярай.
Очень плохой адьярай.
Вдвое больше Мюльдюна. Хромает, кособочит. Качается из стороны в сторону. Быстро бежит! Кричит, радуется поживе. Он нас убьет! Он нас съест! Нет, не убьет. Не на тех напал! Мюльдюн-бёгё – силач-боотур! Сейчас он тебе ка-ак даст! Ой! Мюльдюн без оружия. Совсем‑совсем. Ножик – не в счет. Адьярай тоже безоружен. В рукопашную пойдем? Съесть меня хочешь? Ребра вырвать? Колбасу сделать? Я тебя заломаю! Я сильный!
Сильный, кивает мертвец за спиной.
– Эй! Усохни!
– Адьярай! Заломаю!
Не усохну! Я сильный!
– Это не адьярай. Усохни, Юрюн.
Адьярай! Не адьярай? Брат сказал. Мой брат. Смеется. Адьярай смеется. Не адьярай смеется. Хороший? Очень хороший? Рука на плече. Братняя рука. Отдыхай, молчит Мюльдюн. Усыхай. Мюльдюн – старший. Брата надо слушаться.
Я усыхаю.
У чудища две руки. Две ноги. Два глаза. Под глазами – мешки. Синие, набрякшие. Нет, не адьярай – те одноногие, однорукие, одноглазые. Человек. Громила. Стоит, хохочет. Нападать раздумал. Есть нас раздумал. Да он, небось, и не собирался!
Черный громила перестал хохотать. Он был не сам по себе черный – закопченный, как и всё вокруг. За год не отмоешь! Я стоял напротив громилы и глупо улыбался. Ну да, стоял. На земле. А что? Обычное дело. Сидел верхом на лошади, а теперь на земле стою. Где мой пегий? Да вот же он! Пляшет шагах в двадцати, фыркает. Когда я вырос для драки, ноги из стремян выскользнули и в землю уперлись. А жеребчик, не будь дурак, из-под меня вывернулся и ускакал.
Ничего себе я расширился!
– Это брат, что ли? – спросил громила у Мюльдюна.
– Брат.
– Разве ж это брат? – возмутился громила.
Он явно расстроился.
– Брат! – Мюльдюн сделался чуточку больше.
Что значит: «брат – не брат»?! Брат я Мюльдюну. Родной! Единственный! Роднее не бывает. Или не единственный? Сперва Омогой, теперь этот черный…
– Мне доложили, ты брата везешь. Я обрадовался. Вот, думаю, наконец-то! Давно с ним поработать мечтал…
– Это мой брат, – с нажимом сказал Мюльдюн. – Юрюн Уолан.
Он дождался, пока громила прожует обиду, и повернулся ко мне:
– А это, Юрюн, мастер Кытай Бахсы.
– Кузнец? – ахнул я.
– Угу.
Вот это да! Выходит, мы уже приехали? Жуткий дом-гром – знаменитая Кузня?! А копчёный громила… Одеждой кузнецу служил промасленный фартук из толстой бычьей кожи, надетый прямо на голое тело. Таким фартуком шалаш накрывать, от ливня. С трех быков шкуры содрали, или даже с четырех. На фартуке темнели многочисленные пропалины. Голые плечи кузнеца были изуродованы шрамами от ожогов. Под слоем копоти, и то видно. Предплечья – тоже. Ох, и руки у него! Ручищи! Жилами перевиты; кожа – кора, пальцы – сучья…
– Здравствуйте, мастер Кытай! – опомнился я.
Кузнец изучал меня с ног до головы. Так охотник, мечтавший добыть лося, уговаривает себя, что тощий заяц – вполне годная добыча.
– Всё ли у вас хорошо? Все ли здоровы?
– Всё, – ухнул кузнец. На вид он был мрачней ночи. – У меня всё хорошо.
Словно подтверждая сказанное мастером Кытаем, из-под земли ударил вопль:
– Аай-аайбын! Ыый-ыыйбын!
– Что это?! – подпрыгнул я.
– Аай-аайбын!
В недрах что-то шмякнулось. Земля под ногами ощутимо качнулась:
– Ыый-ыыйбын!
– Уймись! – гневно откликнулся старушечий голос. – Не беснуйся!
– Ыыыыы-ый!
– Запру!
И снова – шмяк!
– Аай-аайбын!
– Запру! Запру окаянную!
– Это старуха моя, – с отменным равнодушием сообщил кузнец. – Дочку вразумляет. Ну что, гости дорогие? Айда в дом?
– Доспех подбирать? – не выдержал я. – Правда, мастер Кытай?
– Да уж подберем…
– Шлем? Меч?
– Да хоть зубочистку…
Он побрел к Кузне, нимало не интересуясь, следуем мы за ним или нет. Налетел порыв жаркого, несущего гарь ветра, растрепал седые волосы Кытая. Взметнулось над головой кузнеца облако тусклого серебра. Хоть садись на него верхом и лети домой, к любящим родителям. Я поймал своего пегого за узду и поплелся, куда велели. Рядом шел Мюльдюн, ведя в поводу вороного.
Брат молчал. Ну, и я молчал.
Разочаровал я кузнеца, сразу видно. Он, небось, думал: этот парень здоровый, как Мюльдюн. Громила! Хотел мастерство показать, самый лучший доспех подыскать Юрюну-боотуру. А я не громила вовсе. Вот Кытай и заскучал.
«Разве ж это брат?» – слова кузнеца вились вокруг меня роем кусачих пчёл. «Где брат твой, айыы?» – поддакивал из-за плеча мертвый Омогой.
Под землей опять завопили.
Мы прошли рядом с дымящейся ямой. Я от большого ума заглянул в нее, но ничего толком не рассмотрел. Дым, чад, темень. Есть там дно, нет – спросите чего попроще. Ямы, где полыхал огонь, мы оставили в стороне. Жар оттуда валил: ой-боой! Неудивительно, что у мастера Кытая брови-ресницы обгорели. И борода с усами. Остатки торчали ржавой щетиной, как на загривке у взбешенного кабана.
У меня, наверное, и нос сгорел бы, и губы, и уши.
Перед Кузней высился столб коновязи. Резной, из лиственницы, с лошадиной мордой на верхушке. В углубления резьбы на веки вечные въелась сажа. Я вздохнул с облегчением: не всё тут у них из железа. Мы привязали пегого с вороным, и Мюльдюн извлек из-за пазухи медную табличку со значками:
– Сарын передал.
Кузнец погрузился в размышления. Кусал губы, морщил лоб, чесал в затылке. Табличка заняла его внимание целиком.
– Понял, – кивнул он наконец.
И обернулся ко мне:
– Жди здесь. Мюльдюн, ты зайди. Разговор есть.
Заскрипела, лязгнула дверь. Я остался один.
Тут она и объявилась.
3. Ыый-ыыйбын! Ай-абытай!
– Куо-Куо.
Откуда она выбралась? Не из-под земли же! Стоит, пялится на меня, косу теребит. Коса длиннющая, до коленок. Платье из мягкой ровдуги, с вышивкой. Бляшки, висюльки, обереги. Нарядное платье, жаль, сажей замарано. Да и сама она… Не такая копчёная, как Кытай Бахсы, но тоже…
Подкопченная.
Лицо припухло, будто со сна. Левый глаз косит. Сколько весен ей – не поймешь. Семнадцать? Двадцать? Двадцать пять?! В общем, взрослая.
– Куо-Куо!
Разве люди так разговаривают? Так лягушки в болоте квакают!
– Чего?
– Куо-Куо!
Пальцем в грудь себе тычет. Это я, мол, – Куо-Куо[16]. А грудь-то вся нараспашку! Стыдоба! Я поскорее отвернулся, чтоб не смотреть. Раскрасавица? Кто ж тебя имечком-то наградил? В насмешку, не иначе!
– Здравствуй, Куо-Куо. Я Юрюн Уолан, сын Сиэр-тойона.
– Юрюн Уолан! – она захлопала в ладоши. – Юрюн Уолан!
Закружилась в танце, подпрыгивает. Взбила к небу пыльный вихрь. Ожерелья звенят, коса мелькает. Пушистым кончиком меня по лицу: раз! И опять: два! Девчонка, честное слово!
– Юрюн! Юрюн Уолан!
И вдруг замерла, лицом ко мне:
– Юрюнчик! Уоланчик!
Пыль тихонько оседала. Я попятился, а она взяла и облизнулась. Съесть меня решила, что ли? Язык у нее – жуть! Длинный, розовый, влажный. У меня под ложечкой ёкнуло. Да ну, откуда в Кузне людоедка! Это я, болван, страстей навыдумывал…
– Пойдем, Юрюнчик! Пойдем, Уоланчик!
Она придвинулась ближе. Я с трудом удержался, чтобы не дать дёру. Хорош боотур – от чужой служанки шарахается! Скоро от мышей бегать начну!
– Куда?
– В конюшню пойдем. С Куо-Куо.
– Лошадей в конюшню отведем?
– Лошадей?
На лице ее отразилось недоумение. Впрочем, она быстро заулыбалась:
– Юрюнчик Уоланчик с Куо-Куо отведут лошадей. В конюшню!
И хихикает, дурочка.
Мы отвязали коней и повели в обход Кузни. Куо-Куо шла впереди, показывала дорогу. На каждом третьем шаге она оглядывалась на меня. «Ты здесь? – спрашивал ее взгляд. – Ты никуда не делся?»
Да что я, маленький? Не потеряюсь!
В конюшне пахло сеном, навозом, лошадиным потом. Вездесущий запах гари тут почти не чувствовался. У входа было светло, а в дальнем конце сгущался мрак. Там всхрапывали, фыркали лошади. Сколько, какие – не разглядишь. Наших мы завели в ближние стойла – они пустовали. Воду в поилки кто-то уже налил. Надо бы корму задать, подумал я.
– Сено у вас где?
Куо-Куо торчала у входа. Загораживала свет.
– Сено? А, сено. Мягкое!
Вот, опять облизывается. Губы у нее сохнут, что ли?
– Тут есть сено. На сене будет хорошо.
И бегом ко мне. Я – назад. Споткнулся, чуть не упал. А она схватила меня, облапила: крепко-крепко! Шепот горячий, как из той ямы с дымом. В самое ухо:
– Красавец мой! Суженый-ряженый!
– Ты чего?
– Жених Куо-Куо! Женишок ненаглядный!
– Чего ты?!
Я бы вырвался, честно. Да у нее хватка – куда там Омогою!
– Отстань! Какой я тебе жених?!
– Жених Куо-Куо! Жених! Станем вместе спать, детей рожать!
Влажное, горячее скользнуло по щеке. Язык! Ее язык! Фу! Мне было жарко, тесно, стыдно. Девка тискает меня, лижет, как взбитые сливки, а я, боотур – ну, боотур же! – высвободиться не могу! Бросило в жар, коленки подогнулись. Сердце зашлось: кэр-буу! Того и гляди, выпрыгнет! Пойдет скакать лягушкой между стойлами…
Да ладно вам ухмыляться! Всё я знал, всё понимал. Сколько раз видел кобылу с жеребцом, корову с быком, сучку с кобелем. Тут ведь в чем главная мерзость? Кобыла с жеребцом – ладно, но ведь не кобыла с жеребенком! Я вам кто? Не та беда, что годами мал, а та беда, что я – сын Сиэр-тойона! Против закона это! Против обычая! Хоть кричи: «Папа, на помощь!» А что? Он услышит, обычное дело.
– Сдурела?! Отцепись!
– Жених!
– Отстань от меня!
Ага, разбежался! Держит, не отпускает. Бормочет всякий бред. Я – ее жених, скоро свадьба. Ляжем в постель, я на нее взберусь, детишек настрогаю… А рука своевольничает, лезет мне под кафтан, под рубаху, в штаны.
– Не трогай! Нельзя там трогать!
– Можно, Юрюнчик…
То, что трогать нельзя, под ее пальцами расширилось. Наверное, в бой собралось. Я тоже сделался больше. Плохая Куо-Куо! Очень плохая! Нельзя там трогать! Вон иди!
Толкнул. Вырвался.
Сумел.
– Боотур-удалец! Хорошо нам будет!
Я заставил себя усохнуть. Пришибу же! Омогою спину не сломал, так этой дурище сломаю. Усыхать было трудней трудного. Боотур во мне противился, возражал, стоял насмерть. Если просто Юрюн знал, чего хочет от него Куо-Куо, и старался держать себя в руках, то Юрюн-боотур ничегошеньки не знал и знать не желал. Он и корову, наверное, с быком не видал, и кобылу с жеребцом. Хватают? Бей! Давят? Бей!
Морока мне со мной!
– Трогай меня! Нюхай меня!
Она плясала, кружилась, пела, радовалась. Бросилась на меня – я увернулся, ногу подставил. Она упала в сено: лежит, смеется. Из платья до половины вывернулась, трясет сиськами:
– Иди ко мне!
– Я хапсагай знаю! – кажется, я опять расширился. – Заломаю тебя!
– Хап-хап! Сагай-сагай!
– Дура!
– Хапай Куо-Куо! Хапай и сагай! Сагай, сагай, до утра сагай!
Я к выходу, а она следом – прыг! Схватила меня. А я – её. Боремся. Швыряю её. Толкаю её. Плохая Куо-Куо! Очень плохая! Заломаю…
В конюшне стало темно. Куо-Куо исчезла: бац, и нету. Заржал пегий в стойле. Куо-Куо откликнулась из другого стойла:
– Аай-аайбын!
Я усох и всё понял. Это она из-под земли орала, когда мы приехали. Выходит, Куо-Куо – дочь Кытай Бахсы?! Я-то думал – прислуга… А вот и мастер Кытай: раскорячился в дверях лесным дедом, свет загородил. Убьет он меня, и правильно сделает. Решит: я его дочку сюда затащил, пристаю…
– Усохни, Юрюн, – прогудел кузнец. – Все в порядке.
– Я уже, мастер Кытай. Уже усох.
– Ну и молодец. Других не уговоришь, а ты сам…
– Я её… она меня…
– Усыхай, не переживай. Я ее утихомирю.
Ее, не меня! Прямо с души отлегло. У меня, если верить дедушке Сэркену, три души, вот со всех трех и отлегло. И зря – рано обрадовался.
О проекте
О подписке