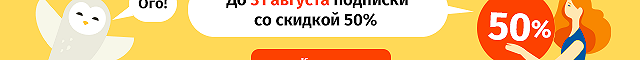
Агеев услышал нервный, дерганый смех, а потом девчонка продолжила:
– А мне как-то вкололи, и вскочил вдруг фурункул на руке. Я к маме, а она, дурочка: ой, деточка, у тебя, может, аллергия какая! Давай мочалкой потрем. Она трет, а я под винтом, но она ничего не замечает. Трет и приговаривает: не волнуйся, деточка, щас пройдет.
И снова они засмеялись, довольные. А девчонка уже вошла в раж:
– Или вот еще. Прихожу и говорю: мам, есть хочу. Ну она мне супца, конечно, наливает, а я проглочу две-три ложки и понимаю, что все – не могу больше есть. Вот и говорю ей: ма, я щас спать лягу, устала что-то. Падаю на кровать и действительно откалываюсь с открытыми глазами. Сначала чудно, конечно, было, а потом узнала, что люди под винтом откалываются с открытыми глазами. И вот лежу я так с открытыми глазами, а мама мне: ты спишь? Сплю, говорю. А почему с открытыми глазами? Не знаю, говорю. Видать, в школе переутомилась. Ну она, конечно, верит мне, оставляет спать и уходит на работу.
«Идиоты какие-то, а не родители! – матюкнулся про себя Агеев. – Хотя, впрочем… Откуда матери этой соплячки, вкалывающей уборщицей на трех ставках и горбатящейся от зари до зари, знать про какие-то колеса, винты и морфы, если она продолжает примерять подростковые проблемы непутевой, но столь любимой доченьки на свое пионерское детство, когда никто не знал толком, что же это такое на самом деле – наркотик».
А паренек уже перехватил ее раж:
– Ты глюки-то ловила?
– Спрашиваешь!
– Какие?
– Да вроде бы самые разные. Но… в общем, в последнее время поперло то, чего боялась. Когда поняла, что меня менты засекли, а участковый, падла, пасти начал, тут такое началось… То опера с собаками за мной гонятся, то еще что-нибудь похуже. Не поверишь, спать иной раз боюсь.
– Спать боюсь… это еще по-божески, – вздохнул паренек. – А меня крысы преследовать стали. Идешь, а кругом крысы! Что ни шаг, то крыса. А потом, когда под винтом подсел на телегу,[9] стал, блин, как будто ученый… стал искать эффективный способ борьбы с наркоманией. И веришь, чуть крыша не съехала по этой теме. Так что крысы…
– А я когда проглотила десять колес, то думала, что просто откинусь. Передо мной вот такая спираль стала раскручиваться, и я врубилась: когда она пойдет в другую сторону, то сойдется в одну точку – и я в этот момент просто сдохну.
– Ишь ты! – цокнул языком паренек. – Это уже серьезно. Меня тоже как-то откачивали. Знакомый пришел – ты, говорит, лежишь как мертвый и весь зеленый. Не синий, понимаешь, а зеленый. Говорят, все покойники сначала зеленеют, а потом уже синеют. Ну тот знакомый меня откачал, так что выжил.
Они говорили о чем-то еще и еще, слова уже сливались в какое-то сплошное бормотание, впрочем, Агеев уже не слушал их. Он вдруг с необыкновенной ясностью увидел, в какую страшную пропасть скатывается его родной город, его Москва, где он родился и вырос. Он старался понять, как и в какой момент его город поимел столь серьезную подсадку.
Когда он воевал в Афгане? Или проводил спецоперации в Чечне? Возможно. Однако в одном он был уверен: именно ельцинский указ «О свободе торговли», выплеснувший на улицы не только его родного города, но и всей России толпы людей, которые что-то остервенело перепродавали друг другу, стал той временной отметкой, от которой можно было бы вести условный отсчет начала бурного развития черного лекарственного рынка. Этот же указ стал отличной ширмой для «лекарственных мальчиков», которые стали зачинателями психоторговли. Юркие и трезвые, с объемистыми спортивными сумками, они умудрялись оставаться незаметными среди сомкнутых шеренг продавцов на стадионах, и в то же время делать так, чтобы их легко находили те, кому надо. И никто не покушался на выбранные ими места возле «опознавательных знаков». Один из таких «знаков» – табачный киоск у выхода из метро – находился неподалеку от его родного дома, в котором прошли его детство, юность и уже более зрелые годы. Эти же ухватистые «комсомолята» могли вполне доступно объяснить любому и каждому, как пользоваться тем или иным препаратом, а их речь, еще не набитая жаргоном и сленговыми словечками, выдавала пусть даже незаконченное, но все-таки высшее образование.
Шли годы, и, возвращаясь из многомесячных командировок в Москву, он видел, как меняется структура торговой гвардии на улицах города. Разбогатевшим мальчикам стало западло самим мокнуть под дождем или стучать ботинком о ботинок на морозе, однако свято место пусто не бывает, и добровольные помощники нашлись довольно быстро – ими оказались сами наркоманы. А вскоре и они стали исчезать, теснимые азербайджанской группировкой, освоившей рыночную торговлю анашой и маком. Впоследствии, как рассказывали Агееву, они освоили и торговлю метадоном – сильнодействующим синтетическим наркотиком внутривенного введения.
Господи милостивый, кто бы мог подумать, что Москва позволит себе опуститься в эту трупно смердящую, страшную по своей сути клоаку!
Тяжело вздохнув, Агеев чуть приоткрыл глаза и покосился на притихшую парочку, которую то ли повело, то ли просто развезло в чердачной духотище от полного истощения организма. Эти, поди, хоть и базлают про винт, но сидят, судя по всему, на эфедроне – наркотике, который производят в домашних условиях из эфедрина и теофедрина. Его основное «преимущество» перед другими – низкая стоимость, которая, правда, компенсировалась страшенным разрушительным действием, вызывающим опасения даже у самих наркоманов. Эйфория, искаженное восприятие времени и реальности, повышенная возбудимость и сильное сексуальное возбуждение, особенно у женщин. Так что парни воруют где ни попадя что ни попадя, чтобы только поиметь к вечеру свою дозу, а у девчонок чуть проще: утром – доза, вечером – минет. И наоборот: вечером – доза, утром – минет.
Правда, после того как азеры заполнили столичные рынки, появилась еще одна дешевая дрянь, так называемый «русский героин». А если проще, то ацетилированный опий, который также приготовляется в домашних условиях путем обработки сухой измельченной маковой соломки растворителем или уксусным ангидридом. Те из наркоманов, кто пробовал это, признавались, что большей и паскудней дряни, чем этот раствор из неотделяемого белого или коричневого героина, за что он и получил за рубежом свое название, еще не придумано. Но что самое страшное в нем, так это жесткая зависимость после первых же приемов.
Задумавшись и размышляя о превратностях судьбы-злодейки, которая подсаживала на иглу и вполне порядочных людей, Агеев знал об этом не понаслышке, он даже не заметил, как из-за дощатой перегородки, словно тень отца Гамлета, выскользнул все тот же Длинный и молча кивнул Агею, чтобы тот шел за ним. Развернулся и словно растворился в чердачных полутонах.
– Мать твою!.. – выругался Агеев и шагнул следом. Рассматривая этот дом снизу, он даже представить себе не мог, что под его крышей скрывается столь огромное чердачное пространство. И еще подумал о том, что, видимо, не зря шайки и компании наркоманов, оккупировавшие подобные чердаки, называли их «городом». Это действительно был город в городе, со своими порядками, со своим уставом и законом.
Пробираясь лабиринтом полуразрушенных вентиляционных труб и каких-то стоек, спотыкаясь и матерясь, они пошли в сторону тускло светящей лампочки, откуда доносился приглушенный ритм тяжелого рока и все явственней пахло марихуаной. Казалось, каждый дюйм чердачного пространства был пропитан этим запахом. Еще одна дверь – и Агеев оказался в просторном помещении, которое освещала серая от пыли стоваттка, подвешенная к деревянной балке.
Агеев осмотрелся. Разбросанные циновки и матрасы, поверх которых лежали человек двадцать наркоманов. Кто в штанах, а кто и в трусах. А какая-то белозадая девица вообще оттопырилась на грязной циновке и, по-видимому, ловила кайф. Сам же Стакан сидел в вольтеровском кресле и смотрел какой-то сериал по явно украденному телевизору.
Мирный и довольно крупный, почти растекающийся в своем кресле, с такими жирными, нечесаными волосами, которые сальными прядями спускались на плечи, он представлял собой довольно омерзительное зрелище. Впрочем, и нарисовавшийся в его берлоге гость, видимо, не вызвал у него положительных эмоций. Стакан скользнул прощупывающим взглядом по тщедушной фигуре сорокалетнего мужика, видимо, определил ему свою собственную оценку, сплюнул и тяжело, словно давний астматик, произнес:
– Агей?
– Ну!
– Гну! Я тебя иным представлял.
Агеев только плечами пожал.
Стакан еще раз прошелся своими свинячьими глазенками по лицу гостя и вдруг спросил, словно поддых ударил:
– Мент?
Растерявшийся от неожиданности Агеев наморщил лоб, а Стакан уже гнул свое:
– Так я же с вами в завязке. Или ты из новеньких?
Вполне возможно, что этот жирный боров гнал тюлю, проверяя купца на вшивость, и можно было бы свободно заболтать его, однако Агееву уже стал надоедать весь этот цирк, и он ощерился в злой ухмылке.
– Про свою завязку с ментами ты будешь им же и докладывать, а мы с тобой о другом потолкуем.
– Что?! Чего-о-о?
В этот же момент Агеев уловил, как к нему метнулась фигура Длинного, в руках которого что-то блеснуло, но он даже не стал тратить на него время. Длинный словно наткнулся на резко выброшенный тяжелый кулак и, охнув, будто подкошенный, мешком завалился на пол.
Филипп посмотрел на распластавшееся тело, поднял с пола никелированный кастет и шагнул к креслу.
Видимо не ожидавший ничего подобного, Стакан продолжал восседать в своем кресле, и, только когда непонятный гость сделал шаг в его сторону, он невольно сжался и, проглатывая окончания слов, забормотал:
– Ты… ты чего? Я же плачу… как и договаривались.
Однако этот непонятный мужик, прикрывшийся рекомендацией Пианиста, будто его не слышал.
– Где Пианист? – угрюмо процедил он, и Стакан вдруг понял, что ему же будет лучше, если он не будет сейчас возникать и давить на психику.
И в то же время опять этот проклятый Пианист… Будто не по его наводке здесь нарисовался этот урод.
– Пианист?.. – выдавил он из себя, не в состоянии понять, чего от него хотят. – Какой Пианист? Ты же сам сказал, что…
– Будешь крутить яйца, вырву мошонку! – сквозь зубы процедил Агеев, и на его щеке дернулся какой-то нерв. – Когда ты его видел последний раз?
По реакции хозяина этого чердачного города было видно, что он не имеет никакого отношения к исчезновению студента музыкального колледжа, по крайней мере он не кантуется сейчас на этом чердаке, и теперь надо было выжать из этой жирной скотины всю информацию, которая могла бы пригодиться в поиске Чудецкого.
– Ну же! Рожай!
Насилуя свои мозги, отчего на лбу пролегли две глубокие морщины, Стакан пытался вспомнить, когда же он действительно видел Пианиста в последний раз. Точнее, когда тот в последний раз покупал здесь марихуану? Наконец, видимо, вспомнил:
– Дней пять назад. Может, неделю.
– А точнее?
– Пять… пять дней. Как раз товар поступил.
– И чем он отоварился?
– Как – чем? – удивился Стакан. – Травкой. Как всегда.
– И… и что? Больше ничем? – подозрительно спросил Агеев, вспомнив, что в тайничках исчезнувшего студента лежала не только травка, но и колеса. Экстези.
К хозяину чердачного городка, видимо, стала возвращаться его привычная наглость, и он снова сплюнул себе под ноги:
– А ты у него сам спроси. Он тебе во всем покается.
И тут же взвизгнул от боли, когда Агеев схватил его всей пятерней за мошонку.
– Я тебя предупреждал, что яйца оторву? Так вот еще одно лишнее слово…
– Хорошо, – простонал Стакан. – Пусти.
Агеев разжал пятерню.
– Кроме травки чем еще он у тебя отоваривался?
На мясистом лице чердачного пушера застыла маска боли, однако он нашел в себе силы отрицательно качнуть головой.
– У меня… кроме травки… нет больше ничего. Чего ты домотался? Менты ведь знают.
– А колеса?.. Где он экстези брал? Разве не у тебя?
– «Экстези»… – Несмотря на боль в мошонке, Стакан все-таки заставил себя язвительно ухмыльнуться. – Экстези – это не по нашим карманам. Здесь только травкой балуются да еще винтом, пожалуй. Тебе об этом и участковый наш подписку даст. А экстези… Экстези по ночным клубам да по дискотекам ищи, там где «зелень» в карманах шуршит.
Агеев не мог не верить хозяину чердачного городка и все-таки не удержался, спросил:
– А если узнаю, что он у тебя экстези брал? Стакан как на больного покосился на Агеева и уже в свою очередь спросил:
– А сам-то он на кого показывает? Или, может, на меня всех кошек вешает? Музыкантишка долбаный!
Судя по всему, он уже принимал Агея за оперка из службы наркоконтроля, который пытается нащупать тот канал с экстези, которым пользовался Пианист, видимо серьезно подзалетевший на своих колесах. И Агеев не стал его в этом разуверять:
– На тебя и показывает.
– С-с-сука!
– Верю. И все-таки где он мог брать экстези? Уже явно успокоившийся Стакан, видимо окончательно решив, что нарисовавшийся в его владениях оперок не принесет ему особо больших хлопот, если, конечно, с ним вести себя по-людски, пожевал своими мясистыми губами, пожал плечами:
– Я бы сдал этого козла, влет сдал, но не знаю. Клянусь!
– И все-таки? Он закатил глаза, и на его лбу снова пролегли две глубокие морщины мыслителя.
– Кто-то мне говорил – правда, я уже не помню, кто конкретно, – что Пианист в «Аризону» зачастил, так, может, там отоваривается?
Агеев полоснул по крысячьим глазкам хозяина чердачного борделя пристальным взглядом.
«Аризона»… Так назывался ночной клуб, посетить который мог далеко не каждый студент. А тут вдруг… зачастил… отоваривается. Что это – лапша на уши, чтобы только отвести от себя сиюминутную беду? Элементарный перевод стрелок? И в то же время… Экстези – это не только совершенно иной приход, чем от того же винта или мульки,[10] но и определенное наличие монет в кармане, о чем и говорил этот разжиревший хорь. И наркоман, подсевший на винт или ту же мульку, никогда не позволит себе поменять пару-тройку фуриков[11] на таблетку экстези.
– А ты не ошибаешься… насчет «Аризоны»? На лице явно повеселевшего Стакана отобразилось нечто похожее на ухмылку.
– Я мог бы не помнить, как зовут отца нынешнего американского президента, но все эти клоповники-ночнушки с американскими названиями, перед которыми маменькины сынки и папенькины дочки стелькой стелются… – И он презрительно сплюнул, тем самым, видимо, выражая свое личное отношение хозяина города к богатеньким ночным тусовкам, которые перешибают у него потенциальных клиентов.
«Ни хрена себе заявочка! – мысленно усмехнулся Агеев. – Клоповники-ночнушки… отец нынешнего президента…» Прямо-таки обиженный социальной несправедливостью гегемон, готовый идти на баррикады ради угнетенного рабочего класса, а не хозяин клоачного города, жители которого зачастую заканчивают свою дурную жизнь золотой вмазкой.[12]
И как ни странно, но Агеев поверил ему.
Стакан, видимо, не был бы Стаканом, если бы в самом конце навязанной ему игры в вопросы и ответы, не предложил «дорогому гостю»:
– Может, девочку желаете? – И ощерился в улыбке, обнажив изрядно поредевший ряд гнилых зубов: – Только не подумайте обо мне примитивно.
Окончательно оправившись от боли в мошонке, этот гаденыш с поросячьей мордой и жирными, давно не мытыми волосами наглел буквально на глазах. Можно было бы, конечно, еще раз напомнить ему, кто на сей момент в этом городе хозяин, и Агеев уже почти представил себе наяву, как его кулак вспарывает печень этого козла, однако силой воли заставил-таки унять праведные чувства. Этот жирный хорь мог еще пригодиться в дальнейшей работе, и ради этого можно было пойти даже против своей собственной совести.
– Это что же, подкуп? – заставил себя ухмыльнуться Агеев.
Стакан сделал «фи».
– Я же просил вас не думать обо мне примитивно.
– Еще раз вякнешь о примитивности мышления, выбью зубы, – пообещал Агеев, и Стакан моментально оценил этот намек.
– Я же от чистого сердца.
– Тогда прощаю. А свою спидоносицу для участкового оставь.
На жирном лице Стакана отразилась вся мировая скорбь.
– Обижаете, гражданин начальник, таких не держим. – И тут же: – Вас провести?
– Сделай услугу. Но учти, если чего соврал…
Откинувшись на спинку водительского кресла и слушая рассказ Агеева, который довольно красочно расписывал чердачный город Стакана, Голованов мрачнел все больше и больше. Когда же красноречие Агеева иссякло, он промычал что-то маловразумительное и неподвижным взглядом уставился в ветровое стекло.
– Ну и?.. – напомнил о себе Агеев. – Тебе мало того, что я накопал, или что-то не так?
Голованов покосился на Агеева и уже чисто автоматически повернул ключ зажигания.
– Да нет, Филя, все путем. Да и информация более чем интересная.
– Это насчет «Аризоны»?
– Да. И, судя по всему, наш мальчик довольно крепко подсел на тему. А это уже хреновато.
Агеев прошелся по лицу друга острым, прощупывающим взглядом. Сева Голованов оставался вроде бы все тем же Севкой, каким он его знал едва ли не двадцать лет, и в то же время…
Чужую беду так близко к сердцу не принимают. И оно бы сейчас самое время расспросить, что да почему, однако что-то в лице Голованова заставило его сдержаться, и он обошелся всего лишь тем, что спросил негромко:
– «Аризона»? Голованов невразумительно пожал плечами:
О проекте
О подписке