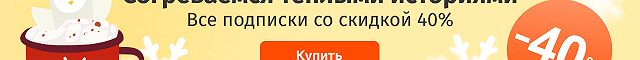
Верховой замелькал среди порченого редколесья в тот самый миг, когда долгожданная солнечная кромка брызнула на мир плавленой медью сквозь вершины заречной чащи. На голой земле между голых стволов можно было еще издали хорошо разглядеть и самого верхового, и лошадь.
Лошадь, кстати, стоила того, чтобы приглядеться к ней особо. Сытая, выгулянная, ухоженная – не чета она была заморенным градским одрам, всю зиму почти безвыходно промаявшихся в тесных стайнях, а то и прямо в хозяйских избах. Шла она спорой рысью, и видать было, что по желанию всадника могла бы намного прибавить прыти. Однако всадник этого не желал. Всадник явно не боялся хороводившейся вокруг него волчьей стаи (конечно, волки на открытое место не показались, но от их песен уши закладывало).
То, что всадник не боялся хищных зверюг – диво не велико: бывают же на свете и полоумные люди, и вовсе которые без ума. Но волков не боялась и лошадь, а уж ей-то положено быть умнее. Под этакие бы завывания другая безо всяких нуканий понесла во всю прыть, да так, что и здоровенному мужику не сдержать. А эта мало того, что не спешила, так еще и голову вскидывала, скалилась злобно, если какой из серых взвывал вдруг ближе других. Оба, стало быть, пустоголовые – и седок, и кобыла. Но ведь не тронуло же их зверье, пропустило! Впрямь диво какое-то…
А дурень-всадник еще и полушубок из волчьего меха в дорогу надел, и треух такой же. Вот это уж точно всем дуростям дурость: волки – они как люди мстят за своих. Но ведь пропустили же!
Пока обалделая сторожа молча дивилась происходящему, верховой успел подъехать к самым воротам и вскинул голову, рассматривая виднеющиеся над частоколом лица.
Худенький малец (лет тринадцать ему, не более), бледненький, синеглазый; ближе к теплу вздернутый нос наверняка облепится веснушками. За ремнем-опояской заткнут легонький топоришко, у седла висит лук – короткий, без костяных накладок, из такого только белок пугать. Но одет зажиточно: вывернутые мехом внутрь рукавицы расшиты цветным узором (мордовская работа, купленная); на ногах – хазарские сапоги (стоптаные, битые стременем и видать, что не по ноге, а все ж голоусому мальчишке и в лаптях было бы ладно). Что ж за родитель у него?
Родитель… Зверина такая – на красные безделки-то не поскупился, а как же хватило совести гнать несмышленое дите ночью в лес к верной погибели?! Да, погибель-то была верная, вот только малец живехонек… Как же так?
– Здравствовать вам, – хрипловато сказал малец и скривился: видно, треснула помороженная губа.
На приветствие никто не ответил. Сторожа с подозрением вглядывались в бледное детское лицо, придирчиво рассматривали густеющую на выбеленной инеем земле тень всадника – правильная ли тень, не обман ли? Кто его знает, что за мальчишка такой; мало ли, чей он… Поди знай кого может выпустить из себя дебрь-кормилица, которая кормилица не одним только людям… Мало ли, что день занимается – может, таки накликали недоброго гостя давешние глупые разговоры? И, может, родитель этого вот мальца-заморыша впрямь зверина – не лишь по дурному норову, а самый что ни на есть?.. Вроде никто не рассказывал, чтобы влакодлаки верхом разъезжали, а только лошадь под этим-то может быть совсем и не лошадь…
– Ну, так отворите, или как? – парнишка поежился не то от холода, не то от недобрых взглядов. – Или мне тут дотемна мерзнуть?
Молчали сторожа. Наконец Кудеслав, раздраженно зыркнув на прочих (что ж, впрямь до вечера решили в гляделки баловаться?!) спросил:
– Ты чей?
– Волхва Белоконя я, – малец вновь знобко передернул плечами. – От него к вашему старейшине послан. Беда у нас, но о том я одному Яромиру скажу – так мне велено.
Сторожа оживились, задвигались. Если и впрямь чудной парень прислан от Белоконя, тогда любое диво понятно. Белоконь – он многое может, не только волкам повелевать.
– А что-то я тебя у него ни разу не видывал, – Кудеславово сомнение вновь заставило градских охоронников насторожиться.
– Я у него недавно, – парнишка говорил торопливо и жалобно, видно очень хотелось ему поскорей оказаться в тепле. – Купленный я. Прошлой осенью меня его сын выменял – не на Торжище, а так, у проезжих людей. А я тебя видал однажды. Ты-то меня впрямь не должен помнить – на Белоконевом подворье люду много, не приметил небось. А я тебя помню. Ты Кудеслав-Мечник, и еще люди кличут тебя Урманом.
За спиной у Кудеслава хихикнули – наверняка Кудлай не сдержался. Мечник коротко глянул через плечо (смех мгновенно затих); тем же недобрым взглядом полоснул по запрокинутому лицу коченеющего в седле мальчишки. Хотя что уж с него взять, не со зла ведь ляпнул – по незнанию. Да и верно говорят: из песни слова не выкинешь. Раз уж прилепилось нелюбимое прозвище, так теперь досужие рты затыкать бесполезное дело.
А Глуздырь тем временем вспомнил, что он здесь летами всех старше.
– Ну, чего пялитесь? – визгливо прикрикнул он на переминающихся охоронников. – Чего мальца попусту морозите? Ему, чай, ночью-то несладко пришлось, а вы… Отворяйте воротину! Живо!
* * *
К Яромиру плохо лепилось слово "старейшина". Даже просто старым его назвать – и то язык с трудом поворачивался, хоть иначе вроде бы и не принято звать мужиков, век которых подбирается к шестому десятку.
Годами Яромир в роду не старейший. Глуздырь старше, и не только он; а глава кузнечной слободы Зван-Огнелюб, сказывают, почти вдвое богаче прожитым веком (очень может быть, что это чистая правда: говорят, будто кузнецы ведают жилы, по которым земная сила течет – ведают и умеют отпивать из них, как комарье отпивает из жил звериных да человечьих). Но бывает ведь так, что не очень еще старый человек длиною седеющей бороды, мудрым благообразием лика и степенностью движений внушает сородичам куда больше почтения, чем иные старцы, летами годящиеся ему в отцы.
Да, так бывает.
Но и это не о Яромире.
Не было в нем ни благообразия, ни степенности; его курчавая борода цветом напоминала гниловатые запрошлогодние листья и вечно стояла торчком; добавить к этому рябое лицо, высоченный рост, саженные плечи, ручищи-лопаты да гулкий рык вместо голоса – вот вам и Яромир.
Но все же его, а не кого-либо из степенных благообразных старцев почти единоголосно избрали главой рода на общинном сходе четыре года назад. Говорят, будто этот сход был самым коротким и тихим из всех, бывавших на памяти ныне живущих родовичей – значит, ни до, ни после не случалось в общине подобного согласия, как в тогдашний день. Почему?
Чтобы понять, хватило бы единственного внимательного взгляда в маленькие барсучьи глазки нынешнего родового старейшины. Разум – хваткий и живой, не иссушенный множеством прожитых лет – куда ценней внешнего благообразия. И еще умение слушать других, умение признать чужую правоту – такое вызывает гораздо большее уважение, нежели властная непреклонность.
Так что пускай себе иноплеменные хихикают в кулаки при виде старейшины, который даже на старика не похож (случилось такое однажды, когда Яромир сам привел челны с общинным товаром на вешний торг). Ежели для кого длина да цвет бороды всего важнее, то и пускай себе – на чужую шею свою голову не нахлобучишь.
* * *
Кудеславу не удалось выспаться после бодрствования в ночном сторожении. По дороге домой казалось ему, что стоит лишь добраться до выстеленных мехом полатей у себя в закутке – и притомившаяся душа как в омут ухнет в беспробудную дрему. Но это только казалось.
Долго, очень долго метался-маялся Кудеслав под тяжкой и жаркой медвежьей шкурой. В голове ворочались, прогоняя сон, тревожные мысли. Присланный Белоконем малец сказал: у них беда. Что за беда? Здоров ли старый хранильник – отцов друг и самому Кудеславу неизменный желатель добра? Какая напасть могла припожаловать на волховское подворье? Напасть… И, видать, непростая, коль весть о ней можно доверить одному лишь старейшине рода!
Да и малец-посланник больно уж недоладный. То говорит: "Белоконев я"; то поминает, что его не сам волхв, а сын волхва у проезжих выменял – будто бы неотделившийся сын (а ни один из сыновей хранильника из-под родительской руки покуда не вышел) при живом отце волен распоряжаться отцовым достоянием! А еще малец сказал: "Беда приключилась У НАС". Всего зиму у Белоконя прокормился, а уже так говорит? Приживчивый, однако, мальчонка… Но хоть и приживчивый – разве дозволительно купленнику величать хозяйское подворье своим? И обряжен он куда красней родных Белоконевых внуков – тех в строгости держат…
Все-таки бессонная ночь исподволь брала свое. Мало-помалу Кудеславовы веки отяжелели; мысли сделались вялыми, путаными, и начало уже грезиться разомлевшему Мечнику смутно-заманчивое, бередящее душу видение, как вдруг чья-то рука вцепилась в плечо, затрясла, спугнула долгожданную дрему.
Кудеслав подхватился, заморгал обалдело – сквозь слипшиеся ресницы лицо разбудившего показалось нечеловеческим, зыбким, продолженьем спугнутого сна. Но был это всего-навсего Велимир, отцов брат, который после гибели родителей Кудеслава милосердно принял к себе их единственное малолетнее чадо, а заодно и все оставшееся без хозяев изрядное достоянье.
– Вставай, – буркнул Велимир. – Тебя старейшина к себе кличет.
Он выпустил Кудеславово плечо и отошел от полатей, уронив за собою плотный меховой полог – это чтобы разбуженный мог выбраться из ложа, не смутив наготой случайный взгляд названой матери, названой сестры, жены названого брата или кто там еще из неродных женщин мог оказаться поблизости? Вот так-то: в бороде уже седые волоски появились, а ни семьи своей, ни хозяйства не нажил, и вместо жилья – занавешенный угол в отцовой избе, которая не тебе досталась и твоею никогда не будет. Кого винить? Злую долю-судьбу? Себя? Последнее будет вернее.
Впрочем, Кудеславу было не до тягостных сожалений о собственной неприкаяности. С новой силой ожил страх за старого ведуна: Яромир не станет ради какого-нибудь пустяка тревожить сородича, отдыхающего после ночных трудов на общинное благо. Не из-за Белоконева ли гонца старейшина кличет к себе Мечника Кудеслава?
Быстро оделся; по давней привычке шагу не ступать без оружия заткнул за голенище сапога короткий широкий нож; в тесных полутемных сенях черпнул ковшом из кадки снеговой талой воды, напился, остатки растер по лицу, добивая сонливость…
Снаружи оказалось нерадостно. Бывшее на рассвете ясным да чистым небо заволоклось мглистой пеленой и сеяло ленивый влажный снежок. Оскальзываясь на подтаявшей глине, Кудеслав в полдесятка шагов пересек тесный дворик, махнул через жердяной плетеный забор (изнутри приступка и снаружи приступка – это чтоб не возиться с длинной неуклюжей воротиной, которую отворяют лишь выезжая со двора телегой либо верхом). Шапку он не надел, полушубка не подпоясал – жилье старейшины от Велимирового через два плетня, так что по дороге вряд ли успеешь озябнуть.
Как и все те, которых родовичи когда-либо удостаивали властвовать над собою, Яромир жил не в своей избе, а в общинной, что окнами глядела на чельную площадь града.
Изба просторная да теплая; крыта она тесом, а не травой, как большинство изб простых общинников. Однако ни двора, ни хлева при ней нет – лишь стаенка для двух от общества же выделенных коней. И плетня вокруг нет. Нечего старейшине отгораживаться от рода, как нечего ему тяготиться заботами о собственном хозяйстве. Ему не о своем благополучии надо радеть, а о благополучии всех. Община поставила его над собой, она же и прокормит. Если успел он к своим преклонным годам вырастить сыновей (а иначе бывало редко), так они и сберегут его достояние; если же нет, то ради общинного блага собственным можно и должно пренебрегать.
В собственную избу Яромир сможет вернуться лишь когда снимет с плеч возложенное родом-племенем бремя. Такое может случиться, не одна лишь смерть способна избавить старейшину от долга перед вверившейся ему общиной. К примеру, Слепый, Яромиров предшественник, доброю волей сложил с себя родовое главенство, почуяв близкое расстройство перенапряженного ума.
Чельная градская площадь еще велика, хоть и теснят ее все сильней плетни да пахнущие свежим смольем стены новых избяных пристроек – невзирая на многочисленные привычные беды община растет, семьи множатся, и вскоре граду станет вовсе тесна закута старого тына.
Но застраивать площадь нельзя. Это место для летучих сполошных сходов (для обыденных мирных дел общество собирается возле древнего родового дуба, что стоит близ пристани). Здесь, под тесовым навесом поставлено вечевое било – пустотелый обрубок огромного липового ствола.
Прежде било стояло на сторожевой вышке. Но в запрошлом году подступившая ко граду мордва вышку спалила – три дня напролет мордовские удальцы метали в нее горящие стрелы и таки подожгли (как все же невелик град: даже хоронясь за деревьями, что с краю поляны, хороший лучник шутя докинет стрелу до самой городской середины). В то же лето затеяли строить новую – чтобы выше прежней да чтобы поджигать было вовсе напрасным занятием – но по сию пору успели возвести остов всего лишь на три человеческих роста.
Видать, не раньше, чем годов через пять красоваться граду новой охоронною вышкой… Это если к той поре она здесь еще будет надобна, если уцелеет здесь град и сама община – не от злых врагов уцелеет, а от затей собственной же крови-плоти.
Общинная изба красна да затейлива. На двускатной крыше резной гребень, глядящий на восток и на запад двумя деревянными конскими головами (белый конь – одно из видимых чельвечьему глазу воплощений превеликого Световита-Светловида). Крыльцо высокое, в пять ступеней, с тесовым навесом на витых столбиках (с этого крыльца старейшина обращается к родовичам, прибежавшим по зову била на сход). Над гладко оструганной дверью резной лик Хорса-светотворителя; на самой двери бронзовая голова невиданного зверя с кольцом в зубах – долгонько, поди, кочевала по торжищам персидская вещь, прежде чем прижиться в затерявшемся среди бескрайних лесов вятичском граде.
К одному из столбиков крыльца был прислонен веник – перетянутый мочалом пук прошлогодних березовых прутьев. Покалывая ладонь засохшими мертвыми почками, Кудеслав обмахнул им прилипшую на сапоги глину, а может статься и не только ее (береза – дерево доброе, она пособит стряхнуть и то, что куда хуже уличной грязи). В сумеречных просторных сенях, освещенных лишь затянутым скобленою кожей оконцем, он снял сапоги, оставив нож в голенище; потом нашарил на стене деревянный гвоздь с набалдашником в виде ощеренной кабаньей морды, навесил на него полушубок и лишь затем, крепко стиснув в кулаке подношение, осторожно толкнул дверь, ведущую внутрь.
В общинную избу нельзя врываться наспех, как был на улице; тем более – при оружии, если пора мирная, а быть оружным не назначено специальным велением.
Потому, что посреди избы вспучился кругом дикого камня неугасимый родовой Очаг – место, над которым незримо и безотлучно витают Навьи и души тех пращуров, кому после смерти назначено блюсти продолжение рода.
Шепча привычные, в плоть, кровь и душу укоренившиеся слова, Кудеслав бросил в Очаг кусочек мяса да клок горностаевой шкурки. Потом, затаив дыхание, проследил: не поникнет ли хоть на миг пламя, не качнется ли к земле прозрачная струйка копоти, завивающаяся под высокую кровлю?
Нет, дурного знамения не случилось.
ОНИ приняли.
Только окончательно уверившись в этом, Кудеслав оборотился туда, где на низких просторных полатях неподвижным истуканом сидел Яромир.
– Здрав будь… – Мечник запнулся, не договоря положеного по обычаю. В неподвижности старейшины чувствовалось что-то принужденное, тревожное. Не случилось ли с ним чего?
– И ты будь, – еле слышно выговорил Яромир – в неверном свете тусклых оконец и очага видно было, как шевельнулась темная борода на обтянутой белым груди.
Старейшина поднялся со скрипнувших полатей и шагнул ближе к гостю, неслышно ступая босыми ногами по утоптанной до каменной твердости земле. Были на нем лишь рубаха тонкого полотна да такие же штаны; избу же, по всему судя, с утра не топили – вон на стропилинах поверх копоти иней уселся. Кудеслава, одетого не в холстину, а в кожу, и то зазнобило… Да, крепок нынешний старейшина, куда как крепок даже для своих не ахти каких старых лет.
Если бы Кудеслав, вопреки обычаю, все-таки решился подстегнуть Яромирову медлительность нетерпеливым вопросом (чего, мол, ты этак-то: звал, торопил, поспать не дал, а теперь молчишь?), он бы не успел и рта приоткрыть.
Из-за мехового полога, отделявшего женскую половину, вывернулась вдруг которая-то из Яромировых жен: тоже босая и в одной рубахе до пят, но распаренная, красная – видать, только от жаркого очага. В руках у нее исходила крутым мясным паром увесистая глиняная миска. Коротко поклонившись Кудеславу, женщина зашарила растерянным взглядом по избе, словно искала кого-то.
– Назад неси, – вполголоса бросил ей Яромир. – Сморило его. И пускай себе, не буди. Похлебает, когда проснется.
Только теперь Кудеслав заметил, что на полатях близ того места, где давеча сидел старейшина, враскидку спал присланный Белоконем малец (вот, стало быть, откуда недавняя принужденная неподвижность родового главы – небось, потревожить боялся).
Несколько мгновений все трое – Кудеслав, Яромир и женщина – глядели на спящего. Давеча, у ворот, Мечник решил, что мальцу от роду лет тринадцать; теперь же подумалось, будто и того меньше. Коротко, по-детски стриженные ярко-рыжие волосы (родитель, поди, или еще кто нахлобучил на голову недорослю горшок, наспех отхватил торчащие из-под глиняной закраины патлы – и будет с него, голобородого) не скрывали тонкую шею, казавшиеся полупрозрачными мочки ушей, втянувшиеся от усталости щеки… Неужто хранильнику трудно было выискать лучшего посланца для неблизкой дороги через ночную дебрь?
И снова бросилась в глаза странность ребячьей одежды. Рубаха полотняная, беленая, как у Яромира, только на вороте и у запястий цветная вышивка; поверх рубахи – малоношеная безрукавая душегрейка пушистого лисьего меха (словно бы нарочно выбирали под цвет парнишкиных волос); да еще хазарские штаны из валяной шерсти… Ради собственной одежды Белоконь бы наверняка постыдился отрывать от хозяйства этакий немалый кусок – ведь на безбородом купленном мальчишке надета цена хорошего жеребенка!
Занятый этими мыслями, Кудеслав вздрогнул от неожиданности, когда Яромир коснулся его плеча:
– Пускай спит – намаялся за ночь-то. Этакий путь и дюжему мужику почти через
О проекте
О подписке
Другие проекты