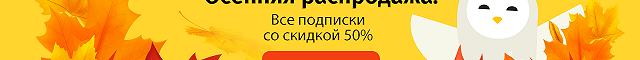
Евгений РАЗУМОВ. Горстка поэзии
***
Внуку Саше
Май. Черемуха. Оттуда (с неба) сыплются стрекозы.
Нет?.. Ну, бабочки, Сашурик, и, наверное, жуки.
И не надо мне о смерти думать буковками прозы.
Я о жизни буду думать этой смерти вопреки.
Ведь иначе всё нелепо будет (и не будет тоже):
и черемуха (под небом, а не где-нибудь в гробу),
и стрекозы, что по небу разлетятся, мальчик, всё же,
и минувшее (подай-ка мне подзорную трубу)…
Нет?.. Тогда очки и кепку из материи из белой.
Мы посмотрим на планету. Мы посмотрим на часы.
Время радоваться солнцу. Не беги как угорелый.
Видишь – клевер, шмель летает… Это?.. Капелька росы.
Повторяемость в природе – старику и то утеха.
Значит, август за июлем не закончится всегда.
Даже смерть – и та, наверно, вроде эха, вроде эха…
Май. Черемуха. Молитва. И куда-то – провода.
***
На закате (жизни этой)
плакать ли (по жизни той)?..
Я кормлю себя конфетой,
что обернута слюдой.
Это вкусно и реально
(ирреально иногда).
Есть и ванная, и спальня,
и (присутствует) еда…
«Что еще для организма
надо?..» – говорит Ламарк.
У Ламарка даже клизма
есть и душ Шарко (в подарок).
Но – закат… (откуда слезы?..)
Но – несбывшееся… (тут.)
Ни поэзии. Ни прозы.
Просто цветики цветут.
Просто птичка (на оградке).
Просто циферки (в кустах).
И пчела во все лопатки
мчится в улей (в двух верстах).
***
На месте испарившейся любви —
крупинка соли, вытекшей из глаз.
До Краснодара, поезд, не зови!..
Там – пустота, которая – Кавказ.
Там – города, куда и рельсов нет.
Зачем же ехать поездом туда,
где камни спят под миллионом лет,
где с гор стекает времени вода?..
Зачем же ехать мне, грызя вагон
от Нелюбви, которая пришла?..
На тридцать лет опаздывает он.
Холодный. Из железа и стекла.
И зря на нем написано – МАЙКОП.
Пустой перрон. И некому читать.
Про то, что было (или – быть могло б).
(Когда тебе – допустим, двадцать пять.)
***
Человек из-за окошка смотрит в сторону луны.
Там несбыточное что-то уронило семена.
(Тридцать лет тому назад уж.) Но – дожди запрещены
на Луне (планета это). (Да и жизнь запрещена.)
Потому «сварю-ка кофе» – так подумается мне.
Откушу кусок щербета, что от жизни от земной.
То есть нечего маячить, понимаете, в окне.
Хватит и того, что было-приключилося со мной.
На Земле (планета это), где и Бог есть, и вода.
На Земле, где кипарису – десять тысяч лет уже.
«Ты постой под кипарисом», – говорю себе тогда.
(Тридцать лет спустя. Хотя бы, понимаете, в душе.)
Чтобы что-то щебетало – о несбыточном, о том,
от чего подушка мокнет (хоть дожди запрещены).
Помычи в ответ, дружочек, в кипарис беззубым ртом.
Да заколоти окошко – то, что в сторону луны.
***
П. Корнилову
№ 2 – напишу на тетради,
написал на которой – РОМАН.
«Фу, опять о двуспальной кровати!..» —
скажет кожаный (с виду) диван.
Там сидели когда-то: Тургенев,
Лев Толстой, Мережковский, поди.
Он скрипуч. Он, наверно, шагренев.
У него, может, жаба в груди.
Что же ерзаю на табурете
я такой литератор сякой,
ни «Отцы» не пишу я, ни «Дети»
этой самой, спрошу я, рукой?..
И никто не ответит отсюда,
где карман возле сердца пришит.
«Попроси Льва Толстого покуда.
Может, он пописать разрешит».
Это голос Корнилова Павла
в ноосфере, наверно, жужжать
начинает. «Роман-то не явно
про двуспальную, Павел, кровать», —
устремляю глаза в ноосферу.
Улыбается. Кто-то. «Ну-ну».
…Обнимая Холодную Веру,
И. Мозжухин отходит ко сну.
***
Ю. Бекишеву
Это будет, возможно, легендою, Юра,
где мы, ясно, бродили (а может быть, хмуро).
(Это как посмотреть из бинокля сюда.)
Мы, наверное, были чуток не отсюда —
ты и Саша Бугров (я – наверное, буду,
если в Вечности третье отыщется «да»).
Не в поэзии дело одной – разумею,
но в страдании душ, где еще птолемеи
что-то в небе искали, живя на земле.
Вот и мы… понимаешь… «Да я понимаю».
Это голос откуда?.. Кого?.. (Николая
Гумилева, должно быть.) (Улыбка пчеле.)
Но страдание душ – эфемерно по сути.
Не печорины мы ведь, не «лишние люди»,
если близится 70 (цифра в уме).
Что же нас отличало от этой лягушки,
озирающей Шаговский пруд?.. Тень чекушки,
что допьем на поминках (по той Костроме)?..
КОВРИГА
Имея на руках (неоспоримо) книгу,
я (все-таки) пишу другую, но – свою.
«Зачем, зачем, зачем?..» – я, дожевав ковригу
(похоже – бытия). От мысли устаю —
не знаю, мол. Зачем охотники по снегу
бредут, бредут, бредут четыреста уже
календарей?.. Душа дается человеку
поводырем. Ага. А человек – душе?..
Не знаю. Бытия чтобы жевать ковригу,
глотая эль судьбы (метафора, ага)…
Разгадывать слова (допустим – «поелику»)…
Смотреть на тень свою, что ловит мотылька…
А впрочем, ведь зима… и надобно спуститься
под горку на ледок, где люди и коньки…
где подле западни разгуливают птицы
(вороны в основном)… Последние деньки
гуляет здесь душа (ну, предположим, годы).
Не нагулялась, нет. Зачем они ползут
вдоль Нидерландов – две груженые подводы?
…Коврига – где она?.. (Вчера лежала тут.)
ЗУБЫ
Улыбнусь белозубым фарфором —
дескать, оченно нравится мне:
эта девушка в поезде скором,
эта дама, допустим, в окне.
«Допускаем, – ответит и дама,
и гудок паровоза Майкоп —
Армавир, – но, увы, телеграмма
опоздала. Всемирный потоп».
«А чего же тогда паровозы
как бы едут туда и сюда?..»
Это – память. Житейская проза», —
отвечает ковчегу вода.
«Может, старость?..» – фарфоровым зубом
откушу я кусок от халвы.
«Может, нечего здесь однолюбам
вспоминать допотопность травы?..» —
говорит ветерок Арарата.
География. Старость. Халва.
Армавир. Телеграмма. Расплата.
Улыбайся – во все тридцать два.
***
Человек глядит – трава. По траве ползут жуки.
Значит, лето. Значит, зря – с непокрытой головой.
Человек идет, идет и уходит в старики.
А когда-то пахло тут пахлавою и халвой.
Это молодость была возле дерева в цвету.
Человека и т.д. И скворечника над ним.
До сих пор от пахлавы – что-то сладкое во рту.
Но – уходит человек, и – уже невосполним.
Как, допустим, Лев Толстой. Из Астапова везут
не его уже, а тень, а чего-то там еще.
Вот и я сегодня бос. Получается – разут.
Но никем еще – босой – очевидно, не прощен.
А жуки-то ведь уйдут. И скворечник упадет.
И никто и никогда не заменит мне себя.
Человек глядит – трава. А в траве написан год.
Не по мрамору, а так – краски белой поскребя.
Что же думает трава обо мне и Льве Толстом?..
Так подумаю, когда под ногой – сентябрь уже.
Странно: думать хлорофилл не велит ей о пустом.
А зачем тогда мы шли, получается, к душе?..
***
Внуку
Время закончится за листопадом —
то, где кузнечики, то, где стрекозы.
Саша, я буду, наверное, рядом —
горстка поэзии с горсткою прозы.
Я не умру (в понимании Брема,
Дарвина или хирурга Петрова) —
просто останусь, наверное, немо
там, где кузнечики прыгают снова,
там, где стрекозы кружат над тобою,
мальчик трехлетний, которому надо
ехать куда-то. (И это судьбою
станет – не дверцею детского сада.)
Я не умру – просто деревом стану.
(Ведь и березы живут, и рябины.)
Август. Пора бы рассыпать каштану
хоть небольшую орехов корзину.
То-то попрыгаем мы, набивая,
ими карманы брючишек, Сашуля!
Август. Природа покуда живая.
…Может, билеты (вокзалу) вернули?..
Георгий КОЛЬЦОВ (1945–1985). Неделимое наследство
***
С отвоёванного детства,
Пережитого сполна,
Мне досталася в наследство
Только Родина одна,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих надо мной,
С городами и лесами,
Опалёнными войной.
Жизнь свою по воле сердца
Прожигая на бегу,
Неделимое наследство
От пожарищ берегу.
И одна забота только:
Всё наследие моё
Передать своим потомкам,
Уходя в небытиё,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих в вышине.
С городами и лесами,
С добрым словом обо мне.
***
Потому ль,
Что был нетерпеливый,
Я мальчишкою лет десяти
Босиком выскакивал под ливень.
Побыстрей хотелось подрасти!
И не мог не видеть,
Подрастая,
Как, вспорхнув из теплого гнезда,
Осенью не только птичья стая
Покидала отчие места.
С вещмешком пустым,
В стежонке ватной,
Но при шляпе модной, как пижон,
По повестке из военкомата
Сам я тоже из дому ушёл.
Мать ли мне сказала на пароме
Иль шепнула синяя река:
– В добрый путь!
Но где бы ни был – помни,
Из какого вышел уголка!
Что бы —
За речным тем поворотом —
В моей жизни не случилось впредь,
Ангара,
Твоим пречистым водам
Не придётся за меня краснеть!
МАНЬЧЖУРИЯ
И сквозь века
Я слышу гик погони
И вижу пепелища городов…
Пасутся неосёдланные кони
В низинах сопок,
Словно у шатров.
А степь вокруг,
Как выжженная крепость,
Пылится под набегами ветров…
Солёные озёра в местный эпос
Входили очертанием подков.
На поле брани вдовы голосили.
Тот стон был слышен рядом и вдали.
И не было беды невыносимей
С момента сотворения Земли.
Красивых русокосых полонянок
Монголы гнали с гиканьем в Орду.
Неся беду другим в тугих колчанах,
На свой же род
Накликали беду.
И чёрная Орда, не золотая,
Ещё представить даже не могла,
Что, как бы высоко ни залетала,
Всегда на землю падает стрела.
И, описав дугу,
Стрела находит,
Выходит так,
Не только лишь врага…
Коню – нести кочевника в походе,
А жёнам – тосковать у очага.
Слезились очи молодых монголок.
Что – юрты без детей?
Они пусты!
И с той поры на склонах сопок голых
От слёз их вдовьих
Зацвели цветы.
СИБИРЬ
Я с берега слежу
За птичьей стаей…
И с каждым днём становится родней
Река с отливом плавящейся стали,
Когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
Но знал:
Куда б меня ни занесло,
Я в эту землю врос,
Как корни кедра,
Невидимо,
Упрямо,
Тяжело.
ПРИЧАЛ
Показался за мысом
Дощатый причал.
– Здравствуй! – крикнуть хотелось,
Но я промолчал.
Переплавишь ли чувства
В скупые слова?
И к лицу ли, как в детстве,
Кричать в тридцать два?
Рябь студёной волны.
И по коже – мороз!
В горле вдруг запершит
От непрошенных слёз.
Ветер, славя простор,
Над рекою крепчал…
От тебя расходились дороги,
Причал!
И скрипел твой настил,
Как солдатский ремень.
Ты всегда по-мужски
Чувства прятать умел.
Провожая людей,
Крепче в берег врастал.
Так не каждый из нас
Верен отчим местам.
Ты распутывал здесь
Узел встреч и разлук…
Вот и дым над избой,
Как спасательный круг.
***
Созвездьями тьма разрублена
На мелкие
На куски.
Таинственно,
Как у Врубеля,
Ложится луна в пески.
И Ангара под звёздами
Багровой кажется мне.
И слышно,
Как кто-то вёслами
Стреляет по тишине.
Художественное слово: проза
Наталья КРАВЦОВА. Пятнадцать копеек
Рассказ
С тех пор, как случилась история, о которой я хочу рассказать, изменилась страна, изменилась жизнь. Сегодня трудно представить, как в годы нашей юности мы обходились без компьютеров и интернета, без мобильных телефонов, банковских карт и электронных документов. А так вот и обходились: жили себе и жили. Как и сегодняшние старшеклассники, мечтали о свободе и воле, стремились поскорее вырваться из-под родительского крыла. Попадали, случалось, в глупейшие ситуации, – всё из-за той же юношеской безалаберности и беззаботности, – когда не хватало рублей и копеек на самое необходимое, а родственники и друзья были далеко и даже не подозревали, что нам нужна помощь. А мы полагались на авось да на добрых людей, которые не дадут пропасть понапрасну.
И не зря, кажется, полагались. В золотые 80-е, названные позже «годами застоя», всё было не так, как сейчас: жизнь – проще, люди – отзывчивее. Я училась в техникуме, а потом в институте, набиралась не только знаний, но и житейской мудрости. А затем, затем… Всё, чему не доучили нас благополучные 80-е, с лихвой наверстали 90-е. Научили выживать, быть бережливее и экономнее, думать о хлебе насущном и завтрашнем дне, заставили повзрослеть и поумнеть.
В свои семнадцать я считала себя вполне взрослой и самостоятельной. Была студенткой-отличницей Бузулукского финансового техникума, без пяти минут дипломированным ревизором государственных доходов, готовилась к продолжению учебы в столичном вузе. До госэкзаменов и защиты диплома мне в ту пору оставалось всего ничего: производственная практика в районном финансовом отделе Новосергиевки, составление отчета об этой самой практике и написание дипломной работы.
Жила я тогда с однокурсницей Любой в Новосергиевке, но каждую пятницу после работы садилась в пригородный поезд и ехала в Бузулук: нужно было встретиться с преподавателями, посидеть в библиотеке, осилить очередную главу диплома и подобрать материал для следующей. А по воскресеньям возвращалась на том же поезде обратно к месту практики.
Ехать недалеко, всего-то четыре часа. Каждая поездка обычно заканчивалась благополучно: я высаживалась на железнодорожной станции и бежала к автобусу, поджидавшему пассажиров на дальней стоянке за переездом. Пять копеек водителю ПАЗика за проезд, выбрать местечко поближе к печке, ненадолго закрыть глаза, помечтать… и вот уже она, моя заветная конечная остановка! Вот улица, превратившаяся по весне в аквариум. Вот соседи нашей квартирной хозяйки, бабы Симы, с каждым из которых нужно приветливо раскланяться, чтобы они потом не выговаривали бабушке: мол, пригрела у себя городских гордячек – и не нарадуется…
– Да какие оне городскии? – заступится Серафима. – Селяночки оне. В городе токмо учатся. А какие ласкаваи, вежливаи. И веселаи. Хорошаи оне!
Надо ли говорить, что жили мы с бабушкой Симой душа в душу: чаевничали вечерами у горячей печи, длинные беседы вели, зиму провожали, весны дожидались – солнышка, тепла, снеготаянья, первого весеннего грома. Наконец, наступил апрель…
***
Чем начинается и заканчивается апрель, известно каждому: начинается капелью, а заканчивается субботником. Под лаской теплых солнечных лучей сползает с земли снежное одеяло, оголяет ее – и сразу хозяйский глаз подмечает: пришла пора прибраться, пока земелька не высохла, пока не полезла из нее первая зеленая травушка. Лопата, грабли и веник уже стоят наготове и ждут своего часа. Давайте, студентки, и вы тоже принимайтесь за дело!
Практикант – это, конечно, не штатный работник, а посему вполне может и уклониться от трудовой повинности, именуемой субботником. Но это не про меня. Воспользоваться случаем и уехать домой пораньше, не поучаствовать в весенней уборке территории вместе с коллегами, с которыми подружилась за зиму, – я бы не смогла.
О проекте
О подписке