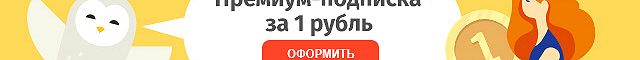
3. Американское образование
Приехав в Соединенные Штаты, я словно заново родился. Я еще не предвидел этого и не знал языка, чтобы сказать: “Free at last”[4], но сразу почувствовал, и чувство это осталось во мне навсегда. Джеральд Холтон, историк науки из Гарвардского университета, отметил, что для многих венских эмигрантов моего поколения полученное в Вене отличное образование в сочетании с чувством освобождения по прибытии в Америку высвободили безграничную энергию и вдохновили нас на то, чтобы мыслить по-новому. Это в полной мере относится и ко мне. Среди многого другого, что дала мне эта страна, было превосходное гуманитарное образование, полученное в Еврейской школе Флэтбуша, средней школе Эразмус-холл и Гарвардском колледже.
Мы с братом поселились у маминых родителей, Герша и Доры Цимельс, приехавших в Бруклин в феврале 1939 года, за два месяца до нас. Я совсем не говорил по-английски и чувствовал, что мне нужно приспосабливаться к новой жизни. Поэтому я отбросил последнюю букву моего имени, Эрих (Erich), и стал пользоваться им в нынешнем написании. С Людвигом произошло еще более серьезное превращение – в Льюиса. Наши тетя Паула и дядя Берман, жившие в Бруклине с тех пор, как в двадцатые годы они приехали в Соединенные Штаты, устроили меня в государственную начальную школу № 217, расположенную в квартале Флэтбуш недалеко от дома, где мы жили. Я ходил в эту школу только двенадцать недель, но к началу летних каникул уже умел достаточно хорошо говорить по-английски, чтобы меня понимали. В то лето я перечитал книгу Эриха Кестнера “Эмиль и сыщики” – одну из любимых книг моего детства, на этот раз на английском, и был искренне горд этим достижением.
Мне не очень нравилось в школе № 217. Туда ходили и многие другие еврейские дети, но я тогда этого не понимал. Мне как раз казалось, что, раз среди учеников так много светловолосых и голубоглазых, значит, они не евреи, и я боялся, что рано или поздно они станут относиться ко мне враждебно. Поэтому я охотно поддался на уговоры дедушки и перешел в еврейскую приходскую школу. Дедушка был весьма религиозным и ученым человеком, хотя и немного не от мира сего. Мой брат сказал, что наш дедушка – единственный известный ему человек, который умеет говорить на семи языках, но на всех говорит так, что ничего не понятно. Дедушка мне очень нравился, а я нравился ему, и он без труда убедил меня в течение лета заниматься с ним ивритом, чтобы осенью я мог поступить в Еврейскую школу Флэтбуша. В программу этой знаменитой дневной еврейской школы входили уроки светских дисциплин на английском и религиозные занятия на иврите, и то и другое с очень высоким уровнем требований.
Дедушкины уроки позволили мне осенью 1939 года поступить в эту школу. Когда в 1944 году я ее окончил, я знал иврит почти так же хорошо, как английский. Я прочитал на иврите Пятикнижие, Книги Царств, Книги Пророков и кое-что из Талмуда. Впоследствии я почувствовал и радость, и гордость, когда узнал, что Барух Бламберг, который в 1976 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине, тоже был из числа людей, получивших прекрасное образование в Еврейской школе Флэтбуша.
Мои родители уехали из Вены в конце августа 1939 года. Незадолго до их отъезда моего отца еще раз арестовали и привезли на Венский футбольный стадион, где допрашивали и запугивали “коричневые рубашки” из Sturm Abteilung (SA). Но после того, как выяснилось, что он получил американскую визу и собирается уехать, его освободили, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Когда мои родители приехали в Нью-Йорк, отец, который ни слова не знал по-английски, нашел себе работу на фабрике, производившей зубные щетки. В Вене зубная щетка была символом его унижения, но в Нью-Йорке с нее начался его путь к лучшей жизни. Хотя ему и не нравилась эта работа, он взялся за нее со своим обычным рвением и вскоре получил выговор от представителя профсоюза за то, что делал очень много щеток за единицу времени, создавая впечатление, что другие работают слишком медленно. Но отца это не остановило. Он всей душой полюбил Америку. Как и многие другие иммигранты, он нередко называл ее goldene Medina – золотой страной, сулившей евреям безопасность и демократию. Еще в Вене он читал романы Карла Мая, мифологизировавшие покорение американского Запада и храбрость американских индейцев, и им тоже по-своему овладел дух Фронтира.
Со временем мои родители накопили достаточно денег, чтобы взять в аренду и обустроить скромный магазин одежды. Они работали вместе, продавая простые женские платья и фартуки, а также мужские рубашки, галстуки, нижнее белье и пижамы. Мы сняли квартиру над этим магазином, в доме номер 411 по Черч-авеню в Бруклине. Родители зарабатывали достаточно не только для жизни, но и на то, чтобы через некоторое время выкупить дом, в котором находились магазин и квартира. Кроме того, они смогли оплачивать мое обучение в колледже и медицинской школе.
Родители были так заняты своим магазином, источником финансового благополучия себя и своих детей, что совсем не приобщались к культурной жизни Нью-Йорка, которой мы с Льюисом начали увлекаться. И все же, несмотря на их вечные труды, они не теряли оптимизма и всегда поддерживали нас, никогда не пытаясь навязывать свои решения в том, что касалось работы и развлечений. Мой отец был честен и принципиален до одержимости: он считал своим долгом немедленно платить по всем счетам за товары, приходившие от поставщиков, и нередко дважды пересчитывал сдачу, перед тем как отдать ее покупателю. От нас с Льюисом он ожидал такой же щепетильности в финансовых вопросах. Но помимо ожидания того, что я буду вести себя разумно и корректно, я никогда не чувствовал с его стороны никакого давления в выборе специальности. Я, в свою очередь, никогда и не ждал от него советов по этим вопросам, учитывая его скромный опыт в социальной и образовательной сферах. За советами я обычно обращался к матери или, чаще, к брату, преподавателям и особенно часто – к своим друзьям.
Отец оставил работу в магазине лишь за неделю до смерти, в 1977 году, когда ему было семьдесят девять. Вскоре после этого мама продала и магазин, и дом, в котором он располагался, и переехала в более комфортабельную и немного более богатую квартиру неподалеку, на Оушн-Паркуэй. Она умерла в 1991 году, когда ей было девяносто четыре.
Когда в 1944 году я окончил Еврейскую школу Флэтбуша, она еще не была связана, как сегодня, с определенной средней школой, поэтому я пошел в Эразмус-холл – местную государственную среднюю школу, отличавшуюся очень высоким уровнем образования. Там я увлекся историей, литературной деятельностью и девушками. Я писал статьи для школьной газеты The Dutchman1 и стал редактором ее спортивного раздела. Я также играл в футбол и был одним из капитанов команды по легкой атлетике (рис. 3–1). Второй капитан, Рональд Берман, один из моих самых близких школьных друзей, был превосходным бегуном и однажды выиграл состязание по бегу на полмили в городском чемпионате (я пришел пятым). Впоследствии Рон стал шекспироведом и профессором английской литературы в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Он был председателем Национального фонда гуманитарных наук в администрации президента Никсона.
Мой учитель истории, Джон Кампанья, выпускник Гарварда, убедил меня подать документы в Гарвардский колледж. Когда я впервые заговорил о поступлении в Гарвард с родителями, отец (который, как и я, плохо представлял себе, чем отличаются друг от друга разные американские университеты) отговаривал меня, потому что подавать документы в еще один колледж было дорого. Я тогда уже подал документы на поступление в Бруклинский колледж – прекрасное учебное заведение, в котором ранее учился мой брат. Узнав об опасениях отца, мистер Кампанья вызвался из собственного кармана заплатить за меня пятнадцать долларов, необходимых для подачи документов. Я был одним из двух поступивших в Гарвард студентов нашего выпуска из 1150 человек (другим был Рон Берман), причем мы оба получили стипендию. После этого мы оценили истинный смысл гарвардского гимна – Fair Harvard. Действительно, fair Harvard[5]!
3–1. Команда-победительница на Пенсильванской эстафете 1948 года. Пенсильванская эстафета – это ежегодное общенациональное соревнование по легкой атлетике для школьников и студентов колледжа. Мы выиграли состязание по бегу на одну милю для школьников. (Фото любезно предоставил Рон Берман.)
Слева направо: Джон Ракер, Эрик Кандель, Джон Бартел, Рональд Берман, Питер Маннус
Хотя я был очень взволнован своей удачей и бесконечно благодарен мистеру Кампанье, я с тревогой покидал Эразмус-холл в полной уверенности, что мне уже никогда не доведется испытать безграничную радость, которую мне давали ощущение социализации и успехи в учебе и спорте в этой школе. В еврейской школе я был просто способным учеником. В Эразмусе я стал не только способным учеником, но и спортсменом. Для меня это была огромная разница. Именно в Эразмусе я впервые почувствовал, что перестал находиться в тени брата, которая так тяготила меня в годы нашей учебы в Вене. У меня впервые были свои собственные увлечения.
В Гарварде я специализировался на истории и литературе современной Европы. Это была специализация по выбору, которая требовала подготовить на последнем курсе[6] исследовательскую курсовую. Те и только те, кто выбирал эту специальность, имели право получать консультации начиная со второго курса вначале небольшими группами, а затем в индивидуальном порядке. Моя исследовательская работа была посвящена отношению к национал-социализму трех немецких писателей: Карла Цукмайера, Ханса Кароссы и Эрнста Юнгера. Эти трое были представителями разных позиций, отражавших широкий спектр реакций немецких интеллектуалов на наступление нацизма. Цукмайер, бесстрашный либерал, всегда осуждавший нацизм, рано покинул Германию и переехал вначале в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Каросса, врач и поэт, занял нейтральную позицию и телом остался в Германии, хотя его душа, как он утверждал, бежала в другие края. Юнгер, лихой германский офицер в годы Первой мировой войны, воспевал духовные добродетели войны и воинов и был идейным предтечей нацистов.
Я пришел к неутешительному выводу, что многие немецкие художники и интеллектуалы, в том числе такие, казалось бы, утонченные умы, как Юнгер, или великий философ Мартин Хайдеггер, или дирижер Герберт фон Караян, с готовностью и рвением поддались националистическому пылу и расистской пропаганде национал-социализма. Последующие исследования Фрица Штерна и других историков показали, что в первый год правления Гитлера у него не было широкой народной поддержки. Если бы интеллектуалы сумели успешно мобилизоваться и повести за собой какие-то слои населения, они вполне могли бы остановить или хотя бы сильно ограничить Гитлера в его стремлении к абсолютной власти.
Я начал работать над своей курсовой на третьем курсе, в то время когда еще собирался после колледжа заниматься историей европейской культуры. Однако ближе к концу третьего курса я познакомился с Анной Крис, студенткой Рэдклифф-колледжа[7], которая тоже эмигрировала из Вены, и влюбился в нее. В то время я ходил на два курса семинаров Карла Фиетора: один был посвящен великому немецкому поэту Гете, другой – современной немецкой литературе. Фиетор был одним из самых выдающихся специалистов по немецкой культуре в Соединенных Штатах, а кроме того, талантливым и харизматичным преподавателем, и он поддерживал мое намерение продолжить заниматься немецкой историей и литературой. Он написал две книги о Гете (одну о его молодости, другую о нем как о зрелом поэте) и новаторское исследование, посвященное Георгу Бюхнеру, сравнительно малоизвестному драматургу, которого Фиетор помог заново открыть. За свою короткую жизнь Бюхнер успел написать одно из первых реалистических и экспрессионистских произведений – неоконченную пьесу “Войцек”, первую драму, изображающую простого, бестолкового человека как личность героических пропорций. Пьеса была опубликована лишь после смерти Бюхнера от брюшного тифа в 1837 году (в возрасте двадцати четырех лет), и впоследствии Альбан Берг переделал ее в либретто оперы (“Воццек”) и положил на музыку.
Анне очень нравилось, что я так хорошо знаком с немецкой литературой, и первое время мы не раз проводили вечера вместе за чтением немецких стихов – Новалиса, Рильке и Штефана Георге. На четвертом курсе я собирался выбрать еще два курса семинаров Фиетора. Но он внезапно умер от рака. Его смерть была для меня личным горем. Кроме того, из-за нее у меня оказалось много пустого места в учебном расписании, которое я уже спланировал. За несколько месяцев до смерти Фиетора я познакомился с родителями Анны, Эрнстом и Марианной Крис, двумя известными психоаналитиками из круга Фрейда. Общение с ними подогрело мой интерес к психоанализу и изменило мои представления о том, чем можно занять освободившееся теперь место в моем расписании.
Трудно передать сегодня ту притягательную силу, которую излучал психоанализ для молодых людей пятидесятых годов. Например, была разработана теория психики, которая позволила мне впервые оценить сложность человеческого поведения и мотиваций, лежащих в его основе. В ходе занятий по курсу Фиетора о современной немецкой литературе я прочитал книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, а также произведения трех других авторов, интересовавшихся внутренними механизмами человеческой психики: Артура Шницлера, Франца Кафки и Томаса Манна. Даже в сравнении с сочинениями этих титанов литературы прозу Фрейда было приятно читать. Его немецкий, за который он в 1930 году получил премию Гете, был прост, кристально ясен и полон юмора и бесконечных отсылок к его собственным трудам. Эта книга открыла мне новый мир.
“Психопатология обыденной жизни” содержит ряд историй, настолько глубоко вошедших в нашу культуру, что сегодня они могли бы послужить сценарием для фильма Вуди Аллена или материалами для выступлений эстрадного сатирика. Фрейд подробно описывает совершенно обыденные, казалось бы, непримечательные события – оговорки, странные случайности, ситуации, когда люди кладут предметы не на место, неправильно пишут слова, не могут что-то запомнить, – и на этих примерах показывает, что человеческая психика подчиняется определенному набору правил, большинство из которых имеет бессознательную природу. На первый взгляд все эти недоразумения кажутся обыкновенными ошибками, незначительными случайностями, которые происходят с каждым (со мной они определенно происходили). Но Фрейд помог мне понять, что ни одна из этих ошибок не случайна. Каждая из них последовательно и объяснимо связана с остальной психической жизнью человека. Меня особенно поразило, что Фрейд написал все это, не будучи знакомым с моей тетей Минной!
Затем Фрейд доказывал, что психологический детерминизм (представление о том, что мало что, если вообще что-то, происходит в нашей психической жизни случайно, а каждое психологическое событие определяется предшествующим) играет ключевую роль не только в нормальной психической жизни, но и в психических заболеваниях. Любой симптом нервного расстройства, каким бы странным он ни казался, не странен для нашего бессознательного начала и связан с другими предшествующими психическими явлениями. Связь между оговоркой и ее причиной, между симптомом и лежащим в его основе когнитивным процессом кроется в работе защитных механизмов (вездесущих, динамичных, бессознательных психических процессов), которые приводят к непрерывной борьбе между саморазоблачающими и самозащитными психическими событиями. Психоанализ сулил возможность самопонимания и даже успешной терапии с помощью анализа бессознательных мотиваций и защитных механизмов, лежащих в основе человеческих поступков.
Что особенно привлекало меня в психоанализе во время учебы в колледже, так это то, что он совмещал в себе работу воображения, всесторонность и эмпирическую базу (по крайней мере, так мне по наивности казалось). Никакие другие представления о психической жизни и близко не дотягивали до психоанализа по диапазону приложения или тонкости объяснений.
В самом деле, вплоть до конца xix века у людей не было иных подходов к тайнам человеческой психики, кроме философской интроспекции (анализа собственных мыслей специально подготовленными наблюдателями) и откровений великих писателей, таких как Джейн Остин, Чарльз Диккенс, Федор Достоевский и Лев Толстой. Чтение всего этого вдохновляло меня в первые годы обучения в Гарварде. Однако, как я узнал от Эрнста Криса, ни подобный самоанализ, ни художественные откровения не могли обеспечить систематического накопления знаний, необходимых для заложения фундамента науки о психике. Ее фундамент требовал большего, чем откровения, – экспериментальных данных. Поэтому ощутимые успехи экспериментальной науки в области астрономии, физики и химии вдохновили исследователей психики на разработку экспериментальных методов изучения поведения.
О проекте
О подписке


