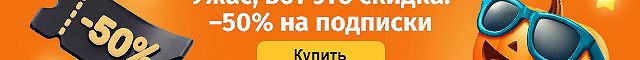
И тут началось самое отвратительное. Признание, которого он с таким неистовством добивался, ожгло его, как удар хлыста, как нечто немыслимое, противоестественное. Ему показалось, что он даже и представить себе не мог подобной гнусности. Схватив жену за шею, он ударил ее головой о ножку стола. Она отбивалась, и он волочил ее за волосы по комнате, опрокидывая стулья. Всякий раз, когда она пыталась подняться, он сбивал ее с ног ударом кулака. Стиснув зубы, задыхаясь, он все больше свирепел от дикой и тупой ярости. От толчка стол отъехал в сторону и чуть не опрокинул чугунную печку. Окровавленные волосы прилипли к углу буфета. Наконец, обессиленные, раздавленные всем этим кошмаром, они вновь оказались возле кровати и перевели дыхание: он устал избивать, она была чуть жива от побоев; Северина по-прежнему лежала на полу, а Рубо, на корточках, все еще стискивал ей плечи. Оба тяжело дышали. Снизу по-прежнему доносилась музыка, звучали взрывы смеха – очень звонкого, очень юного.
Рывком Рубо поднял Северину с пола и прислонил к спинке кровати. Он продолжал стоять на коленях, давя на нее всей своей тяжестью; к нему вернулся дар речи. Он больше не бил жену, теперь он терзал ее расспросами, весь во власти неутолимой жажды все узнать:
– Значит, ты с ним спала, шлюха!.. Повтори, повтори, что ты спала с ним… И сколько тебе было тогда лет, а? Небось девчонкой, совсем еще девчонкой была?
Внезапно Северина залилась слезами, рыдания мешали ей говорить.
– Будешь ты отвечать, проклятая?.. А? Тебе, должно быть, и десяти не было, когда ты начала забавлять старика! Верно, для этого скотства он тебя и растил и кормил. Отвечай, проклятая, не то я опять за тебя возьмусь!
Она рыдала, не произнося ни слова, и он, размахнувшись, изо всех сил ударил ее по щеке. Трижды он повторял свой вопрос и, не дождавшись ответа, трижды наотмашь бил по лицу.
– Сколько тебе было лет, шлюха? Говори, говори же!
К чему бороться? Последние силы оставляли ее. А ведь он способен был вырвать у нее сердце из груди своими заскорузлыми пальцами бывшего мастерового. Допрос продолжался; Северина рассказывала все, но была до такой степени раздавлена стыдом и страхом, что ей с трудом удавалось выдавить из себя слова, и их едва можно было разобрать. А Рубо, мучимый жестокой ревностью, все больше впадал в бешенство, все сильнее страдал от картин, вызванных ее рассказом, но ему этого было мало, он заставлял жену приводить все новые подробности, сообщать все новые факты. Припав ухом к устам несчастной, содрогаясь от боли, он выслушивал ее исповедь, а она, с ужасом видя занесенный кулак, грозивший обрушиться на нее, все говорила и говорила.
Ее детство, юность, все годы, проведенные в Дуанвиле, проходили перед ним. Где это произошло? В густых зарослях обширного парка? В каком-нибудь укромном закоулке замка? Должно быть, старик имел виды на Северину уже тогда, когда после смерти садовника взял ее в дом и воспитывал вместе с дочерью. Конечно, это началось еще в те дни, когда, завидя его, другие девочки прекращали игры и спешили скрыться, и только она одна, подняв улыбающуюся мордочку, ожидала, чтобы он ласково потрепал ее по щеке. И позднее она потому так бесстрашно смотрела ему в глаза, так уверенно добивалась всего, чего хотела, что уже тогда чувствовала свою власть над ним; а он, такой важный и строгий с другими, подкупал ее своими похабными любезностями! Какая гнусность! Старикашка приучал ее чмокать его в щеку как деда, жадно наблюдал, как девчонка растет, тискал ее, постепенно растлевал, даже не желая дождаться, пока она повзрослеет!
Рубо задыхался.
– Сколько ж тебе тогда было? Говори, сколько тебе было?
– Неполных семнадцать.
– Лжешь!
Господи, к чему ей лгать?! В полном отчаянии, вконец обессиленная, она только пожала плечами.
– А где это произошло в первый раз?
– В Круа-де-Мофра.
Он на секунду запнулся, его губы дрожали, перед глазами металось желтое пламя.
– Я хочу знать, что он с тобою сделал?
Она не ответила. Он замахнулся.
– Ты мне не поверишь…
– Говори!.. Он ничего не сумел, да?
В ответ она только кивнула. Именно так. И тогда он исступленно стал требовать, чтобы она описала, как это происходило, он хотел знать все, употреблял грубые выражения, подверг ее гнусному допросу. Она только сильнее стискивала зубы и лишь кивком подтверждала или отрицала. Не станет ли им обоим легче, если она все расскажет? Но он еще больше страдал от подробностей, которые, как она думала, смягчали ее вину. Будь у них обычная, естественная связь, Рубо не так терзался бы. Но этот разврат был ему омерзителен, и ревность, как отравленный клинок, вонзалась в самое сердце. Отныне все кончено, для него нет больше жизни, перед глазами будут неотступно стоять эти отвратительные сцены…
У него вырвалось мучительное рыдание.
– Проклятье!.. Проклятье!.. Нет, нет, это невозможно! Невозможно! Это уж слишком!
И вдруг он снова вцепился в жену.
– Шлюха проклятая, зачем же ты пошла за меня?.. Да понимаешь ли, как подло ты меня обманула? Даже у воровок в тюрьме и то нет такого греха на совести… Стало быть, ты меня презирала, не любила?.. Зачем ты пошла за меня?
Северина только пожала плечами. Она и сама толком не знала, что ответить. Просто была рада выйти замуж, избавиться таким образом от старика. Ведь часто и не хочешь чего-нибудь делать, но делаешь только потому, что так подсказывает разум. Нет, Рубо она не любила; но не могла же она прямо сказать ему, что, если б не эта история с Гранмореном, она бы вовек не согласилась стать его женой.
– Ему, понятно, хотелось тебя пристроить. Вот он и нашел простака… Ему хотелось тебя пристроить и опять приняться за старое. И когда ты ездила туда, вы опять этим занимались? Для того он и звал тебя?
Она снова утвердительно кивнула.
– И на сей раз он приглашал тебя за тем же?.. Стало быть, этому непотребству не будет конца? Если я тебя не придушу, все начнется сызнова!
Его сведенные судорогой пальцы вновь потянулись к ее горлу. Но тут она возмутилась:
– Пойми, ты несправедлив! Ведь я отказалась туда ехать! Вспомни, как ты меня уговаривал, я даже рассердилась… Ты сам видишь, что я этого не хочу. С прошлым покончено. Никогда, никогда больше я на это не пойду.
Он чувствовал, что она говорит правду, но это не принесло ему облегчения. Никакими силами невозможно было изгладить то, что произошло между Севериной и стариком, и это причиняло Рубо такую жестокую боль, словно в груди у него торчал кем-то всаженный нож. Он жестоко страдал от бессилия сделать так, чтобы этого не было. Все еще не выпуская жену, он теперь почти касался лицом ее лица и, как зачарованный, пристально всматривался в голубые прожилки на ее лбу, будто ища подтверждения тому, в чем она ему призналась. И, точно в бреду, бормотал как одержимый:
– Там, в Круа-де-Мофра, в красной комнате!.. Я помню, ее окно выходит прямо на железную дорогу, а напротив – кровать. И в ней, в этой комнате!.. Понятно, почему он надумал завещать тебе дом. Да, ты его вполне заслужила. Как же ему не позаботиться о твоих деньгах, не дать тебе приданое… Подумать только – судья, богач, миллионер, образованный, важный, живущий в почете! Просто голова идет крутом… А что, если он и вправду твой отец?..
Северина разом вскочила на ноги. С силой, неожиданной в таком хрупком и измученном существе, она оттолкнула мужа. И вне себя от гнева крикнула:
– Нет, нет, только не это! Делай со мной что хочешь. Хоть убей… Но не говори этого! Ты лжешь!
Рубо по-прежнему не выпускал ее руку.
– Что ты можешь знать? Видно, ты и сама это подозреваешь, потому так и возмущаешься.
Она попробовала высвободить руку, и кольцо – золотая змейка с рубиновой головкой – оцарапало ему ладонь. Он сорвал кольцо и расплющил его каблуком в новом приступе ярости. Потом безмолвно, окончательно потеряв голову, принялся ходить из угла в угол. Северина тяжело опустилась на край кровати и следила за ним расширенными глазами. Воцарилось грозное молчание.
Бешенство Рубо не утихало. Едва он начинал приходить в себя, как новая, еще более сильная волна неистового гнева, точно опьянение, накатывала на него, и он чувствовал, что в голове у него мутится. Он больше не владел собою, метался по комнате, размахивал кулаками, казалось, его захлестнул буйный вихрь ярости, и Рубо безвольно подчиняется ему, послушный лишь одной властной потребности – ублажить хищного зверя, беснующегося в недрах его существа. То была острая физическая потребность, свирепая жажда мщения, она сверлила его, и ему не суждено было обрести покой, пока он ее не утолит.
Не останавливаясь, он ударил себя кулаком по голове и пробормотал с тоскою:
– Что мне делать?
Раз он не убил эту женщину тут же, он никогда ее теперь не убьет. От сознания своей подлой слабости Рубо приходил в еще большее неистовство: только из подлости, только потому, что он все еще хочет эту шлюху, он не придушил ее. Но не может же все оставаться, как было. Значит, надо выгнать ее, вышвырнуть на улицу, не пускать на порог? И новая волна отчаяния поднялась в нем, чувство глубочайшего отвращения к самому себе затопило все его существо: он понял, что не сделает даже этого. Что же дальше? Неужели примириться с такой гнусностью, вернуться с этой женщиной в Гавр и продолжать спокойно жить с нею, будто ничего не произошло? Нет, нет! Лучше смерть, лучше умереть обоим, и немедленно! И такая тоска охватила его, что он издал безумный вопль:
– Что мне делать?
Северина все так же сидела на кровати, неотступно следя за ним расширенными глазами. Она испытывала к мужу спокойную дружескую привязанность, и картина его жестоких мук вызвала в ней сострадание. Она способна была простить и грубую брань, и побои, но его слепая ярость повергла ее в такое изумление, что она до сих пор не могла прийти в себя. Мягкая и покорная, уступившая в юности домоганиям старика, а позднее согласившаяся на брак, лишь бы все уладилось, Северина не понимала, как мог вызвать подобный взрыв ревности ее давний проступок, о котором она к тому же сожалела; порок не коснулся Северины, плотские желания почти не тревожили ее, в ней еще оставалось очень много от наивной девушки, вопреки всему сохранившей нравственную чистоту, и потому она смотрела на мужа, который яростно бегал из угла в угол, с таким чувством, с каким смотрела бы на волка, на существо иного порядка. Что в нем творится? Только ли это ярость? Больше всего ее пугало то, что она теперь явно чувствовала в нем зверя, которого все эти три года подозревала и который лишь изредка заявлял о себе глухим рычанием; и вот он взбесился, сорвался с цепи, готов впиться зубами. Что сказать, как помешать беде?
Мечась по комнате, Рубо то и дело оказывался у кровати, возле Северины. Она каждый раз ждала его приближения и наконец осмелилась заговорить:
– Послушай, дорогой…
Но он, не обращая на нее внимания, устремлялся в противоположный угол комнаты, словно соломинка, подхваченная вихрем.
– Что мне делать?.. Что мне делать?
Собравшись с духом, она схватила его за руку и на мгновение удержала.
– Посуди сам, я же отказалась поехать… Я больше туда в жизни не поехала бы, никогда, никогда! Ведь я люблю тебя.
Она пыталась быть ласковой, притянула его к себе, подставила губы для поцелуя. Но, упав на постель рядом с Севериной, он с отвращением оттолкнул ее.
– Ах, шлюха, теперь ты не прочь… Только что упиралась, тебе не хотелось… А теперь не прочь… чтобы снова забрать надо мною власть? Стоит мужчине на это пойти – и ему вовек не уйти… Спать с тобой? Ну нет! Это отравит мне всю кровь.
Он дрожал. Мысль об обладании этой женщиной, о том, что их сплетенные тела будут содрогаться под одеялом, опалила его огнем. И в мрачных тайниках его плоти, в самой глубине его жгучего и оскверненного желания, внезапно возникла неотвратимость убийства.
– Так знай, чтоб мне самому не подохнуть, если я решусь опять переспать с тобою, надо, чтоб прежде он подох от моей руки… Чтоб он подох, подох от моей руки!
Его голос окреп; повторяя одно и то же, Рубо выпрямился, казалось, эта фраза помогла ему принять решение, и он обрел покой. Рубо замолчал, медленно направился к столу и пристально посмотрел на сверкающее лезвие складного ножа. Машинально сложил его и опустил в карман. Уронив руки, вперив взгляд в пространство, он стоял неподвижно, о чем-то думая. Две резкие складки прорезали его лоб, выдавая внутреннюю борьбу. Словно ища выхода, он подошел к окну, распахнул его и замер, подставив лицо дуновению прохладного вечернего ветерка. Охваченная страхом, Северина поднялась с места; она не решалась ни о чем расспрашивать и только пыталась угадать, что происходит за этим низким упрямым лбом; стоя позади мужа, она молча ожидала, глядя в открывавшийся перед нею простор.
Приближался вечер, вдалеке на темном фоне едва вырисовывались дома, обширную территорию станции окутывал лиловатый туман. Открытое пространство со стороны Батиньоля погружалось в пепельную мглу, в ней постепенно исчезали железные фермы Европейского моста. Последние блики умиравшего дня еще вздрагивали на стеклах больших крытых платформ, устремленных к центру столицы, а внизу уже струился густой мрак. Потом сверкнули искорки – вдоль платформ загорались газовые рожки. Темноту прорезал яркий сноп света – это зажегся фонарь на паровозе поезда, уходившего в Дьепп: вагоны были битком набиты пассажирами, все дверцы уже заперты, машинист ожидал лишь распоряжения помощника начальника станции, чтобы тронуться с места. Но тут возникло замешательство, красный сигнал стрелочника преграждал дорогу, маленький паровик торопился увезти в сторону вагоны, каким-то образом оставшиеся на пути. Тьма сгущалась; в густом переплетении рельсов, посреди верениц неподвижных вагонов, замерших на запасных путях, то и дело проносились поезда. Один отошел в Аржантей, другой – в Сен-Жермен; прибыл очень длинный состав из Шербура. Сигналы следовали один за другим, слышались свистки, звуки рожков; со всех сторон вспыхивали огни – красные, зеленые, желтые, белые; в неясном сумеречном свете трудно было разобрать, что происходит: чудилось, будто крушение неизбежно, но поезда скользили, почти касаясь друг друга, разбегались в стороны и, точно крадучись, уползали во мрак. Наконец красный сигнал стрелочника погас, дьеппский поезд дал свисток и двинулся. С тусклого неба начали падать редкие капли дождя. Казалось, он будет идти до утра.
Когда Рубо повернулся, его окаменевшее лицо выражало упорство, словно надвигавшаяся ночь окутала и его своим мраком. Решение созрело, план был готов. Взглянув на стенные часы, едва различимые при свете угасавшего дня, он громко сказал:
– Двадцать минут шестого.
И удивился: час, какой-нибудь час, а сколько событий! Можно подумать, что их муки длятся уже долгие недели.
– Двадцать минут шестого, у нас есть еще время…
Северина, не решаясь ни о чем спросить, по-прежнему с тревогой следила за ним. Рубо пошарил в шкафу, достал лист бумаги, склянку с чернилами, перо.
– Садись и пиши!
– Кому?
– Ему… Садись.
Еще не зная, чего он от нее потребует, она инстинктивно шарахнулась в сторону, но он поволок ее к столу и с такой силой усадил, что она покорилась.
– Пиши… «Выезжайте нынче вечером курьерским поездом в шесть тридцать и не выходите из купе до Руана».
Ее рука, державшая перо, дрожала; страх Северины возрастал: неведомая опасность чудилась ей в этих двух простых строчках. Она даже отважилась поднять голову и пролепетала:
– Послушай, что ты собираешься сделать?.. Умоляю, объясни…
Он повторил громко и непреклонно:
– Пиши, пиши.
Потом посмотрел Северине прямо в глаза и без гнева, без брани, но с неумолимостью, которая подавляла и подчиняла ее, сказал:
– Скоро узнаешь, что я сделаю… Но я хочу, чтобы ты это сделала вместе со мной, слышишь?.. Если мы станем действовать сообща, это свяжет нас друг с другом.
Он внушал ей ужас, и она попыталась воспротивиться.
– Нет, нет, я хочу знать… Не стану я писать, пока не узнаю.
Тогда, ничего не говоря, он взял ее руку, маленькую и хрупкую, как у ребенка, и стал медленно, точно тисками, сжимать в своем железном кулаке, как будто решил раздавить. Казалось, он хотел, чтобы вместе с болью в нее вошла его воля. Северина испустила вопль, в душе ее что-то сломалось, она смирилась. Пассивная от природы, так ничего и не поняв, она была вынуждена подчиниться. Покорный инструмент в любви, она стала покорным орудием смерти!
– Пиши, пиши.
И она стала писать, с трудом выводя слова онемевшими пальцами.
– Вот и отлично, молодец, – сказал он, взяв письмо. – А теперь убери в комнате… Я зайду за тобой.
Он был очень спокоен. Подошел к зеркалу, поправил галстук, надел шляпу и вышел. Северина услышала, как он дважды повернул ключ в замке и вынул его из двери. Совсем стемнело. Некоторое время она продолжала сидеть, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. Из соседней комнаты, где жила продавщица газет, слышался приглушенный жалобный визг: должно быть, там был заперт щенок. Внизу, у Доверней, фортепьяно затихло. Теперь оттуда слышался веселый звон кастрюль и столовой посуды: девушки хозяйничали в кухне, Клер приготовляла баранье рагу, Софи перебирала салат. А Северина, раздавленная смертельной тоской, которую еще больше усиливала надвигавшаяся ночь, прислушивалась к их смеху.
В четверть седьмого локомотив курьерского поезда, направлявшегося в Гавр, показался из-под Европейского моста; его подогнали и прицепили к составу. Все колеи были забиты, и поезд не удалось поставить под крытый навес главного пути. Он ждал под открытым небом у самого края платформы, переходившей в узкую насыпь; вереница газовых фонарей, окаймлявших платформу, убегала вдаль, и на фоне чернильного неба огни казались тусклыми звездами. Дождь недавно прекратился, и воздух пропитывала промозглая сырость, поднимавшаяся с обширной, ничем не защищенной территории станции: в тумане казалось, будто она простирается до слабо мерцавших огоньков в окнах зданий на Римской улице. Необозримое унылое пространство, залитое водой, испещренное кровавыми точками огней, беспорядочно загромождали едва выступавшие из мрака паровозы, одинокие вагоны, разобранные составы, уснувшие на запасных путях; из недр этого моря мглы доносились различные звуки – оглушительное, хриплое, лихорадочное дыхание, пронзительные свистки, напоминавшие отчаянные крики насилуемых женщин, жалобы далеких сигнальных рожков, и все это сливалось с рокочущим гулом соседних улиц. Кто-то громко отдал распоряжение прицепить к составу еще вагон. Локомотив курьерского поезда стоял, выбрасывая из клапана мощную струю пара, она устремлялась вверх, а затем расползалась, и мельчайшие завитки походили на чистые слезы, растекавшиеся по беспредельному траурному пологу, затянувшему небо.
О проекте
О подписке
Другие проекты
