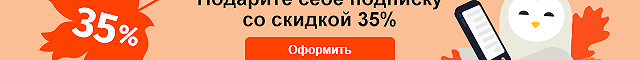
Наркотик славы
Еще пара сюжетов, правда совершенно иного свойства, связанных с уже упоминавшимся моим пребыванием в Боткинских бараках.
Ослабленным детям, к числу которых относился и я, был прописан рыбий жир – по столовой ложке в обед. Вряд ли вы пили когда-нибудь рыбий жир, если вы человек не очень преклонного возраста, – его уже давно заменили шарики витамина «А» и прочих витаминов. Но лет десять-пятнадцать после войны рыбий жир являлся одним из основных средств витаминизации, особенно детей. Как говорится, дешево и сердито. Но те, кому довелось его принимать под крики или уговоры родителей или под начальственным прессингом медсестер, если дело происходило в больнице, вряд ли до конца дней забудут его специфический тошнотворный вкус.
Однако, среди обычных homo sapiens встречались и аномальные о́соби, которым рыбий жир нравился. К моему собственному удивлению выяснилось, что к их числу отношусь и я: с черным хлебом, посыпанным солью, я мог с удовольствием употребить три-четыре столовых ложки рыбьего жира. Какая удача для моих ближайших соседей и медсестер, которым попадало от врачей, если выяснялось, что они не смогли влить его в тех, кому он был назначен. Я стал популярной личностью не только среди ближайшего окружения, но даже в бараке в целом – сестры, сдавая дежурство, вместе с назначениями врачей передавали своим сменщицам и меня, как палочку-выручалочку, помогающую решить сложнейшую проблему, стоявшую перед ними. Ну пусть не полностью, но хотя бы частично. Подобная популярность несколько скрашивала моральный ущерб, который наносился мне принуждением к унижающим мое «мужское» и человеческое достоинство упомянутым выше выступлениям в качестве учебного пособия.
Ежедневное поглощение мною нескольких порций рыбьего жира превратилось в некое подобие циркового выступления. Если и без аплодисментов после принятия каждой ложки, то под искреннее, нескрываемое восхищение публики. К каждому обеду мне подавалась медсестрой бутылочка типа той, из которых кормят грудничков, содержащая энное количество порций рыбьего жира, два-три куска (вместо положенного одного) черного хлеба и солонка. Я не торопясь посыпал ломоть хлеба солью, твердой рукой наливал в ложку рыбий жир и медленно нес ее ко рту. Собравшаяся вокруг моей кровати публика, затаив дыхание, замирала – для пущего сходства с рискованным цирковым трюком не хватало только барабанной дроби!.. Еще мгновение, и я в замедленном темпе, изображая на лице непостижимое удовольствие, выпивал содержимое ложки. Со стороны публики слышался выдох, подобный тому, который раздается в цирке после извлечения дрессировщиком своей головы из пасти льва, или по завершении воздушным акробатом смертельно опасного трюка… Работая на публику, я, смакуя, облизывал ложку, затем заедал выпитое хлебом с солью. И не торопясь, не утрачивая артистизма, приступал к наполнению следующей ложки.
Под влиянием наркотического действия славы я даже довел число поглощаемых ложек с первоначальных трех до пяти… Я, по-моему, испытывал те же чувства, что и популярный спортсмен, старающийся под магнетическим воздействием своих фанатов превзойти свое прежнее достижение. Или ударник коммунистического труда, стремящийся с подначки парткома побить собственный производственный рекорд.
Слава богу, меня выписали раньше, чем я успел возненавидеть рыбий жир, и до того, как я испортил себе печень передозировкой витамина «А», которым он столь богат.
Я не пил рыбий жир уже не менее полувека, а может и дольше… Интересно, понравился бы он мне сейчас? Но просто из любопытства воспроизводить детский эксперимент уже пожилому человеку как-то неудобно.
Немцы вживую
Немцев, в смысле фашистов, конечно, я видел множество: в документальных и художественных фильмах, на плакатах, в тогда еще немногочисленных детских книжках про войну и т. п. Даже сам рисовал их в самодельных альбомах, сделанных в переплетной мастерской маминого 8-ого ГПИ – в войну и непосредственно после нее альбомы для рисования купить было практически невозможно. А вот вживую немцев видеть не приходилось. Интересно, какие они, живые? Но где их возьмешь живых-то? И вот довелось.
По обеим длинным сторонам барака были окна, множество огромных окон высотой метра в три-три с половиной – до самого потолка. Была уже осень – то ли еще сентябрь, то ли уже начало октября, – пора уже было их заклеивать, чтобы больные не простудились. И вот в один из дней у нас в бараке появились… немцы! Совершенно натуральные. Естественно, пленные. Им было поручено заклеить окна. На заклейку трех окон – одно напротив моей кровати, одно до нее, и одно после, – у них ушло что-то около двух дней. За эти два дня я и мои соседи имели возможность наблюдать их в непосредственной близости, и даже немного общаться.
Первое удивление – это то, что они были похожи на обычных мирных, я бы даже сказал тихих, немногословных людей. И уж во всяком случае никак не походили на тех бандитов, которые в кинохронике умело и лихо поджигали крестьянские избы, вешали партизан или заложников, после чего, довольные проделанной «работой», позировали на фоне повешенных, улыбаясь в кинокамеру. Однако форма на них была та же самая, что и в кино. И худощавые лица без особых примет – тех же парней в пилотках. Чаще всего белобрысых. Только форма была без знаков различия на погонах, уже весьма потертая и местами аккуратно заштопанная…
Второе удивление я испытал в отношении самого себя – сколько я ни старался, никак не мог отыскать в себе ненависть к ним, которую безусловно обязан был испытывать, исходя из всего того, что я знал о немцах, о фашистах. Это меня ужасно мучило, но я ничего не мог с собой поделать – ненависть не появлялась. Было только чувство любопытства, как если бы, допустим, я имел возможность наблюдать со стороны кусочек жизни ранее невиданных мною хищных обитателей джунглей в обстановке, где им незачем было проявлять свои хищнические наклонности. Немцы (они работали по двое) делали свое дело молча и споро, изредка перекидываясь между собой несколькими словами на своем немецком языке. Иногда появлялся немец, который был у них старшим, что-то говорил им начальственным тоном, они выслушивали, не возражая, и он уходил.
Иностранный язык в школе мы в те годы начинали изучать как раз с третьего класса. Для подавляющего большинства, в том числе и для меня, это как раз был немецкий. Но так как практически с самого начала учебного года я сразу загремел в больницу, то ни одного слова, кроме общеизвестных «хэндэ хох», «цурюк» и «Гитлер капут», которые вряд ли были уместны в данном случае, я не знал. Но немцы, бывшие в плену уже не первый год, знали несколько десятков слов по-русски. Поэтому лежащие около окон ребята понемногу начали общаться с ними.
В силу скудности языковой подготовки с обеих сторон, общение сводилось к любопытству с русской стороны, а с немецкой – к попыткам получить взамен наших благожелательных ремарок что-нибудь съедобное. Так как мы сами представляли собой недокормленные растущие организмы, общение поначалу шло довольно вяло. Однако немцы вероятно понимали специфику обстановки, в которой они находились. Для лучшего налаживания интернациональных связей с народом-победителем у них имелись всяческие поделки. Одну из них, на которую я запал, помню до сих пор. Это был небольшой самодельный ножичек с наборной пластмассовой ручкой. Ножичек понравился не мне одному – конкуренция была довольно приличная. Однако у меня было серьезное преимущество – небольшой запас из нескольких ломтей хлеба, сохранившихся от выпитых мною лишних порций рыбьего жира, к которым они прилагались. И ножичек достался мне. Применив все свои знания конспирации, я таки сумел вынести его из больницы, откуда ничего нельзя было уносить с собой при выписке, учитывая специфику инфекционного барака.
Увы, столь ценная вещь не смогла долго удержаться в моих руках – хвастаясь после выписки ножичком в школе и во дворе, я вскоре утратил его.
Возвращение
Ленинград еще помнил бомб и снарядов град,
Но уже оживал усилиями людей.
Особенно же Город был рад,
Услышав первый смех детей!
Незабываемый лик войны
В январе 1944-ого сняли блокаду, а уже в начале лета наш 8-ой ГПИ возвращался в Ленинград. Теперь ехали не в теплушках, а в обычных пассажирских вагонах.
Какая-то узловая станция. Наш состав остановился рядом с таким же составом, в котором в Ленинград возвращались эвакуированные из какого-то другого уральского или сибирского города. В обоих составах открылись окна, начались возбужденные переговоры из окна в окно, расспросы о знакомых – ведь встретились ленинградцы, три года оторванные от дома, потерявшие в суматохе спешной эвакуации 1941 года не только знакомых, но иногда и родственников. И вдруг радостный крик – «Вера!!!»… Оказалось, что в этом составе возвращается в Ленинград одна из ближайших маминых подруг – тетя Агнесса со своим десятилетним Гошей.
(«Тетя» – это, как известно, просто «фигура речи». Эта мало интеллигентная манера настолько въелась в меня, что будучи уже сорока-пятидесятилетним мужчиной, я продолжал маминых подруг, которых знал с детства, называть тетя Агнесса, тетя Броня, тетя Белла… И моя мама для детей этих «тёть» тоже пожизненно была «тетя Вера»).
Они начали через окно (выйти было нельзя – каждый из двух составов мог тронуться в любую секунду) торопливо обмениваться самыми важными событиями, которые произошли с ними за минувшие три года. Мама показывала меня (как я вырос, какой стал…), а тетя Агнесса – Гошу… Но наш поезд тронулся, и мы разъехались. Мама еще долго не могла успокоиться… А кто бы мог?
Была в этой поездке еще одна специфическая деталь: к нашему сугубо мирному поезду была прицеплена отдельная платформа, на которой была установлена зенитка, – ведь еще шла война, и немцев хотя и отогнали от Ленинграда, но, по-видимому, не так уж далеко. Работать ей, слава богу, так и не пришлось.
А теперь о главном впечатлении не только этой поездки, но, пожалуй, и всего детства.
Как я, пяти-семилетний ребенок, мог представлять себе войну, в частности, бой? Телевидения еще не было. Для того, чтобы самому ходить в кино, где перед основным фильмом показывали военную кинохронику, я еще был слишком мал, а маме было не до кино. Поэтому в эвакуации основными источниками информации о войне для меня были разговоры взрослых, да редкие картинки и плакаты, карикатурно изображавшие преимущественно Гитлера, которого закалывает штыком советский солдат. Вот и почти все визуальное изображение войны, доступное мне. А тут…
Был ранний летний вечер, то есть еще совсем светло. Поезд очень медленно – малым ходом, – по наскоро восстановленному пути, проезжал где-то вблизи Сиверской – это около 70 км от Ленинграда. И вдруг как-то незаметно мы стали вползать в самое настоящее поле боя. Жестокий, по-видимому, бой относительно недавно (пять-шесть месяцев как сняли блокаду) шел прямо вдоль железнодорожной насыпи, в узкой полосе шириной каких-нибудь восемьдесят-сто метров между железной дорогой и вдребезги раздолбанным леском. Все было настолько натурально, что захватывало дух. Те, кто стал нечаянным зрителем этой картины, впали в какой-то ступор, замерли и онемели минут на пять-семь, пока мы медленно проезжали этот участок. Это было настоящее поле боя, с которого, по-моему, были лишь убраны тела убитых. Поезд, слегка постукивая на стыках, пересекал довольно глубокую полосу обороны, расположенную по обе стороны железнодорожного полотна (мы видели только одну ее половину). Перепаханная взрывами земля с воронками, обрушенные окопы и выгоревшие то ли блиндажи, то ли огневые точки… Частично втоптанные в землю и разорванные заграждения из колючей проволоки… Вот перед окопом, уткнувшийся дулом в землю станковый пулемет. Глаз выхватывает кое-где валяющиеся винтовки, каски – как наши так и немецкие. Вот опрокинутая, искореженная противотанковая пушка. А вот на расстоянии метров пятнадцати друг от друга две, лежащие на боку, сгоревшие полуторки; частично обгоревшие снизу деревянные столбы с оборванными проводами… И большое количество, не поймешь зачем здесь оказавшихся, перепутанных и почему-то разноцветных, – желтых, красных, зеленых, синих, черных, – проводов…
Такое забыть невозможно. Такое врезается в память навечно, даже если тебе всего семь лет. Это поле боя я вижу спустя многие десятки лет как сейчас!
В тесноте да не в обиде
В свою комнату на Жуковской 28 мы вернуться не могли – в нее во время блокады были вселены жильцы разбомбленного дома. По специальному и достаточно справедливому постановлению такие люди выселению с занятой ими площади не подлежали. Поэтому нас с мамой поселили в общежитие сотрудников, попавших в аналогичное положение, или дома которых были разбомблены.
Под общежитие был выделен чердак дома, где расположился наш 8-ой ГПИ. Дом не абы какой – известен всем петербуржцам. Памятник архитектуры тридцатых годов XIX века – Невский, 70. В нем к моменту написания этих строк помещался Союз Журналистов. Снаружи сплошной элегантный классицизм, узкие прямоугольные окна с белыми наличниками; внутри кое-где лепные гирлянды цветов, шлемы, щиты. Вестибюль когда-то был облицован белым искусственным мрамором. Но я что-то этого «мрамора» не помню. От центра вестибюля на второй этаж в большой зал ведет широкая парадная лестница. Красиво жил генерал-адъютант Иван Сухозанет – владелец этого небольшого, но весьма стильного особняка, покрошивший картечью 14 декабря 1825 года полки, вставшие на сторону декабристов. Но тогда всего этого мы, конечно, не знали. Да и все это архитектурное и интерьерное великолепие совсем не бросалось в глаза – оно весьма потускнело без соответствующего ухода за годы советской власти и особенно за годы блокады.
О проекте
О подписке