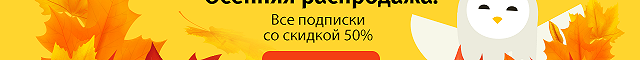
– Печальный и добрый человек, – произнес Синрик обычным своим сиповатым, ворчливым голосом, не сводя прищуренных глаз со свечи, с которой снимал нагар. – Усталый человек, имевший в сердце жалость к нам, грешным.
Не часто можно было услышать от Синрика хотя бы десяток слов кряду, за исключением тех случаев, когда он во время богослужения произносил заученные наизусть фразы. Поэтому слова причетника, сказанные от себя, производили в его устах впечатление пророческого речения: печальный человек – потому что семнадцать лет подряд он исповедовал верующих и терпеливо отпускал им бесчисленные прегрешения; усталый – потому что без конца утешать, укорять и прощать людей так трудно, что к шестидесяти годам немудрено изнемочь, в особенности для человека незлобивого и кроткого; добрый – потому что он как-то умудрился сохранить в душе сострадание и надежду, постоянно сталкиваясь с пучиной человеческой немощи. И то сказать, Синрик знал отца Адама лучше, чем кто-либо другой! За годы служения он перенял от своего наставника некоторые душевные качества, хотя и не имел его духовной власти.
– Тебе будет его не хватать, – сказал Кадфаэль. – Как и нам.
– Он останется неподалеку, – отозвался Синрик, защипнув двумя пальцами чадящий фитиль.
Синрику было лет пятьдесят с лишним, – сколько именно, никто не мог сказать, потому что сам причетник не знал года своего рождения, хотя точно помнил день и месяц.
Чернявый и черноглазый, с желто-смуглой кожей, Синрик ходил всегда в долгополом подряснике с обтрепанными от многолетней носки краями, жилищем ему служила крошечная каморка над ризницей в северном притворе, где отец Адам облачался и хранил церковную утварь. Синрик был человеком замкнутым и угрюмым, из той выносливой породы долговязых и сухопарых людей с крепкой костью, чья худоба объясняется не одной только бедностью, но отшельнической забывчивостью ко всему, что относится к телесным потребностям. Родом он был из семьи вольных крестьян, где-то в северном конце города жил его брат, пожилой и семейный, уже вырастивший своих детей. Изредка, по большим праздникам или по случаю семейного торжества, Синрик навещал своих родственников, но вся его жизнь протекала в церкви да в отведенной ему каморке наверху. Такой молчаливый человек с изможденным и хмурым лицом, казалось бы, должен был всем внушать невольный страх, но Синрика люди не сторонились, ибо его суровость и молчание никого не обманывали: все, даже озорники мальчишки из Форгейта, знали, чтоґ на самом деле скрывается за его внешностью, поэтому она никого не отпугивала. Люди знали, что молчун Синрик – добрый старик. Все шли к нему со своими бедами, уверенные, что он, как и отец Адам, никому не откажет в помощи.
Некоторые, правда, тяготились молчаливостью Синрика и не могли подолгу переносить его общество, зато с ним дружили самые бесхитростные и невинные существа: детишки и собаки любили посидеть с ним летним вечером на ступенях северного крыльца, они прекрасно обходились без его разговоров; ребятишки болтали, ему оставалось только слушать, и это нисколько не мешало их дружбе. Матери были довольны, видя своих отпрысков в такой почтенной компании, и многие из них удивлялись, отчего Синрик не женился и не завел детей, раз так любит с ними возиться. Должность причетника не могла быть помехой для женитьбы. В Шропшире по многим приходам еще можно было встретить женатых священников, и никто не видел в этом ничего худого. Новые порядки, запрещавшие клирикам вступать в брак, еще не прижились как следует в Англии, и никто, включая даже епископов, не смотрел косо на тех, кто продолжал жить по старинке. Одно дело монахи – те выбрали свой путь, но белое духовенство по-прежнему могло жить по-мирскому, и это никому не ставилось в вину.
– У него, кажется, не было родственников? – спросил Кадфаэль, зная, что Синрик, как никто другой, был осведомлен об обстоятельствах отца Адама.
– Никого.
– Когда я прибыл сюда из Вудстока с аббатом Херибертом, – сказал Кадфаэль, – отец Адам только что заступил здесь в свою должность. Да и сам Хериберт был в ту пору еще только приором при аббате Годсфриде. А ты, помнится, появился здесь через год после меня. Да ты и моложе меня. Мы столько тут прожили, что могли бы, пожалуй, составить анналы здешней церковной истории. Это был бы достойный памятник отцу Адаму. Вот уж кто никогда не пренебрегал своими обязанностями! При нем никто не отпал, никто не был забыт. Были у него среди прихожан такие, что снова и снова грешили, но, к чести отца Адама, они всегда возвращались к нему на покаяние. Они не могли без него обойтись. А он никогда не выпускал из рук ниточку, которая держала их и притягивала назад, куда бы они ни забредали в своих блужданиях.
– Так и есть, – признал Синрик, сощипнув пальцами сгоревший фитиль с последней свечи, затем он поправил покривившиеся свечи на приходском алтаре и, отступив на шаг, оглядел их ровные ряды сощуренными глазами.
Из горла Синрика вдруг вырвался сиплый звук, точно со скрипом отворились ржавые ворота, и причетник нехотя выдавил из себя еще несколько слов:
– У вас там уже решили, кого поставить на его место?
– Нет еще, – ответил Кадфаэль. – Иначе отец аббат сказал бы тебе. Завтра он срочно едет в Вестминстер на легатский совет, и новое назначение откладывается до его возвращения, но аббат обещал нам не задерживаться. Он знает, что время не ждет. Покуда отец аббат в отъезде, у вас будет служить брат Жером. Не сомневайся, аббат Радульфус всей душой печется о делах прихода!
Синрик кивнул в знак согласия, ибо и сам знал, какие хорошие отношения были между аббатством и приходом на протяжении всего времени, что здесь священствовал отец Адам. За эти годы сменилось три аббата, но тут все складывалось иначе, чем в других монастырских церквах, в которых совершались службы для мирян. В других монастырях частенько возникали трения из-за того, что монахи не хотели делиться местом с мирянами и не желали допускать их в свои здания, а белое духовенство поднимало шум, когда его хотели вытеснить. Не то было здесь! Наверное, так сложилось благодаря кротости отца Адама, и львиная доля заслуги принадлежала именно ему, так как с ним всегда можно было полюбовно договориться.
– Он любил иной раз угоститься винцом, – задумчиво произнес Кадфаэль. – У меня еще осталась настойка, которая ему особенно нравилась, она сделана на травах и полезна для головы и для крови. Приходи вечерком ко мне в сад, Синрик, и мы с тобой помянем отца Адама.
– Приду, – сказал Синрик и даже позволил себе слегка улыбнуться, что бывало нечасто, но эта добродушная улыбка привлекала к нему детей и собак, которые по ней распознавали его истинную суть.
Бок о бок они прошли по холодным плитам главного нефа, и Синрик, выйдя через северный притвор, двинулся наверх в свою темную каморку. Кадфаэль провожал его взглядом, пока за ним не закрылась дверь. Столько лет они прожили рядом, в мире и согласии, но никогда близко не общались. Да и кто мог похвалиться близкой дружбой с Синриком? С тех пор как он выпорхнул из-под матушкиного крылышка и оставил родной дом, он, кажется, ни с кем не сходился по-настоящему, кроме отца Адама. Когда сближаются два одиноких человека, их связывает такая особенная задушевная дружба, что они составляют одно целое. Многие, наверное, оплакивают сейчас смерть отца Адама, но самую тяжкую утрату понес с его кончиной Синрик.
С наступлением декабря впервые в эту зиму монахи растопили очаг в теплой комнате. В те полчаса между ужином и повечерием, когда братии позволено было поболтать, только и разговоров было что о замещении должности приходского священника, даже поездка аббата Радульфуса на легатский совет отошла на задний план. Приор Роберт на время отсутствия аббата переселился в его покои, и охочие до пересудов братья еще больше развязали бы языки, если бы не брат Жером – неотлучная тень приора Роберта, который счел себя обязанным замещать приора. Субприор брат Ричард по крайнему своему благодушию, если не сказать лени, не стал связываться с ним и не отстаивал своего старшинства.
Тщедушный брат Жером был ревностным монахом, однако многие находили, что ревность его к служению весьма однобока и что Жерому недостает млека человеческой терпимости, каковою, по мнению самого Жерома, отец Адам излишне грешил.
– Отец Адам был, конечно, добродетельным человеком, – сказал Жером. – Чего-чего, а этого у него не отнимешь! Все мы знаем, что он ревностно трудился на Божьей ниве. Но он слишком мягко относился к чужим проступкам. Он попустительствовал прегрешениям, виновники отделывались у него легкой епитимьей и чересчур быстро получали отпущение грехов.
– При отце Адаме в приходе царили порядок и добрососедские отношения, – возразил брат Амброз, раздатчик милостыни, по должности своей постоянно встречавшийся с беднейшими из форгейтских бедняков. – Я знаю, чтоґ о нем говорят люди. Уйдя из жизни, он оставил после себя благополучный приход, который не доставит хлопот его преемнику. Прихожане доброжелательно встретят нового священника, потому что привыкли к доброжелательству при отце Адаме.
– Дети всегда рады слабости наставника, который боится наказывать розгой, – поучительно изрек Жером, – а воры хвалят судью, который попустительствует преступникам. Зато когда-нибудь их ждет страшная расплата. Для них было бы лучше, если бы их заставляли платить по счетам сейчас, чтобы в иной жизни их души заслужили прощение.
Брат Павел, наставник послушников и мальчиков из монастырской школы, прибегавший к телесным наказаниям разве что при самых вопиющих проступках, молча улыбнулся на эти слова.
– Излишнее милосердие – это не доброта, – продолжал разглагольствовать Жером, упиваясь собственным красноречием; в эту минуту он очень гордился своим даром проповедника. – Как гласит устав, дитя, совершившее проступок, должно быть наказано розгой. А кто же эти жители Форгейта, как не дети неразумные?
В этот миг раздался звон колокола, призывавший монахов на повечерие, но и без того никто из присутствующих не собирался выступать с возражениями: Жером слыл в монастыре пустозвоном, и никто не обращал на его слова особого внимания. В ближайшие два дня ему предстояло читать прихожанам проповеди, в которых он наверняка обрушит на своих слушателей суровые обличения, да только не много народу соберется его слушать, а у тех, кто придет, его слова будут влетать в одно ухо и вылетать из другого, поскольку всем известно, что он только временно замещает священника.
Как бы там ни было, Кадфаэль, отходя ко сну, был очень задумчив, ему показалось также, что он слышит чье-то перешептывание, но сам он хранил молчание, соблюдая монастырский устав, который требовал, чтобы слова вечерней молитвы были для монаха последними перед отходом ко сну и чтобы его мысли ничто не отвлекало от богослужения. Кадфаэль ни о чем другом и не думал. Ибо, засыпая, он слышал, как внутренний голос повторяет ему сквозь дрему одно и то же. То были стихи шестого псалма. С этим Кадфаэль и заснул.
«Domine, ne in furore… Господи! Не в ярости твоей обличай меня и не в гневе твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен…»
О проекте
О подписке

