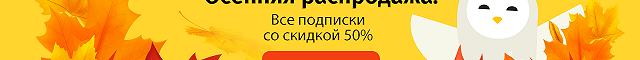
– Сыночка, ты руку-то из лица вынь, когда с женщиной разговариваешь, – приказным тоном произнесла тогда тетя Труда, Гертруда Николаевна, большая и суровая баба ложного интеллигентного вида, не лишенная сдобности и остатков женской привлекательности. – Сыночка, паразит, ты чего сюда без спросу свою шоблу-еблу привел? Чего молчишь? – Она мастерски выдерживала долгую театральную паузу, готовясь к решающему броску, и ее потрепанное и полустертое лицо, напоминающее изъятую из обращения монету, не выдавало никаких эмоций.
– Ты мне просто ответь на один вопрос, – она вдруг заговорщицки подмигнула подруге и снова вперилась взглядом в подростка:
– Ты ходить-то уже умеешь?
Парень удивленно заморгал и серьезно ответил:
– Ну да…
– Так и ходи отсюда на хер! – Труда даже покраснела, но не от стыда, конечно, а от удовольствия, что так подшутила над щенком. – Тут тебе дом родной? Ты мне хоть одного твоего знакомого в нашем дворе покажи, сучий ты потрох! Брыськайте отсюда, мелюзга, чтоб духу вашего здесь не было!
И Труда, одернув свой старый халат, надетый в этот раз наизнанку, бесстрашно пошла на огрызающихся шакальчиков, точно зная, как с ними управляться. Еще бы, она работала когда-то на звероферме и очень хорошо понимала правила иерархии: если не ты их, так они тебя. Сыночка съязвил что-то негромкое своим дружбанам, те заржали в голос, развернулись и пошли к арке искать уют в другом месте. Враг был отбит.
На всякий случай Труда бросила им на посошок, чтоб наверняка:
– И шоб вам усем повылазило, паразиты!
А Бабрита добивала окончательно и бесповоротно:
– Кес-ке-се, – спросила она по-французски, моментально переводя на русский: – А что за нахер?
Подростки от такого напора мгновенно превратились в послушных детей, молча и понуро направились к арке, а бабы-защитницы победно переглянувшись, снова засели в покосившийся блиндаж.
Нинка все сидела на подоконнике, подложив для мягкости под попу подушку, и лениво рассматривала мир. Окно было вечно грязным, как его ни мой, – первый этаж, все брызги и вся грязь облепляли стекла, и картинка была как в тумане. Нине это не нравилось, но сделать она особо ничего не могла. Подоконники были широченные и прохладные, и под каждым в каждой комнате холодник, шкафчик, куда можно было класть запасы, всякие там банки с огурцами, консервы и соленья. Внешняя уличная стенка была тонкой, и в шкафу этом всегда сохранялась прохлада, как раз такая, какая нужна была для сохранения продуктов. Мама объяснила, что раньше, до революции, холодильников не было, вот и делали холодильники в каждом доме. Все шкафчики в квартире и вправду были заполнены запасами – время было советское, дефицитное.
Но у Нины под подоконником стояли банки с сушеными грибами. У них вообще была семья грибоедов, их ели и так, и сяк, и в супах, и в жаренье, и голыми, и с картошкой-луком, и в икру проворачивали, и в пирогах поглощали. А самым интересным была, конечно, охота на них. Нинка с папой, мамой и бабушкой вставали рано-рано, часов в шесть, быстро завтракали, одевались как на настоящую охоту – резиновые сапоги, даже если дождем и не пахло, куртки, штаны, голову прикрывали – и в путь. Еще бабушка давала каждому в руки по ножу и предупреждала: «Убью, если кто нож потеряет!» Они у нее все любимые были – хорошо заточенные, с ручкой по руке. Шли молча до какого-то полянного места с молодым березнячком и невысокой травкой, открытого солнцу и дождику.
– Ищите тут! – командовала бабушка. – И кланяйтесь, прямо-то не ходите, прячутся они от нас!
Все разбредались по кустам и вскоре сходились с полными ведрами чистых пахучих крепких беленьких.
Дома шел разбор: что на жареху, а что на сушку. Бабушка брала чистую кисть с щетиной, очищала каждый боровичок от песка и хвои и откладывала в отдельную корзину. Те, что предназначались для сушки, мыть было никак нельзя. Потом она резала каждый грибок вдоль, нанизывала на толстую нитку и всю эту грибную гирлянду подвешивала в комнате под потолком, прямо у печки. Так грибы и висели почти все лето, хотя для того, чтобы высушить беленькие, вполне хватало двух недель. Но Нина просила бабушку их не снимать, пока она не уедет: ей нравилось жить в сказочной лесной избушке среди подвешенных пучков трав, грибков, залетных бабочек, засушенных и давно забытых букетиков полевых цветов, стоящих то там, то здесь по всему домику в маленьких майонезных баночках.
А дома Нина тащила грибы к себе под окно, засыпала в банку до верха, крепко-накрепко закрывала крышкой, но они все равно ухитрялись всю зиму и весну напоминать и о себе, и о бабушкиной избушке – запах каким-то невозможным образом проникал даже через закрученную крышку и всегда, даже зимой, в комнате стоял тонкий и сначала не совсем различимый аромат чего-то лесного и знакомого. Нинины подружки водили носом и не могли сосредоточиться. И всякий раз обязательно спрашивали – а чем пахнет-то? А пахло действительно лесом, полянкой, разогретой июльским солнцем, земляничкой, уже красной, но так обидно растоптанной, прелой землей и белыми: вон-вон они! под молодой сосенкой! А когда маме надобилась парочка грибов для супа из заветной банки, Нина доставала их сама. Всегда отбирала так, чтобы и шляпка была, и ножка, чтобы все по-честному. Выкладывала из них сначала какую-то мозаику на столе, потом отбирала, какие пойдут в кастрюлю на этот раз, и гордо, потому что сама нашла их в лесу, несла маме на кухню.
Нина жила в дальней комнате в углу дома – слева от арки, в самом тупике. Нинино окно выходило прямо на крышу чужой котельной, в которую можно было войти только с соседнего двора, но крыша, поднимающаяся от земли почти на метр, была целиком в Нинином владении. Пятачок перед ее окном был влажный, заросший мхом и плесенью. Солнце сюда никогда не заглядывало: как оно могло сюда достать? Никак! Зато из кирпичной кладки прямо в ее окошко рос какой-то высокий, мощный и очень многолетний, практически вечный сорняк. Он колосился и матерел из лета в лето, а зимой ненадолго застывал в недоумении, не сбрасывая листвы. Нине он был по душе. Его мощные корни впивались в цемент между кирпичами, залезали в щель между кладкой и асфальтом и со временем целиком ушли под дом. Видимо, в той сырой темноте им больше нравилось жить. Солнца ему в тупике, конечно, не хватало, он и приспособился к теневой жизни, начав что есть силы расти и тянуться ввысь.
Подоконник был любимым Нининым местом. Здесь она делала уроки, читала, мечтала, играла. Тут рядами стояли старые и любимые, совсем из детства, игрушки, с которыми Нина никак не могла расстаться, хотя понимала, что давно пора – она уже не маленькая. Ну как можно было выбросить дряхленького Буратинку с дурацкой улыбкой, смеющимися глазками и бровками домиком? А любимого резинового серого ежика с нарисованными неколючими иголками? Раньше он пищал, но теперь пищалка выпала… А неужели рука поднимется выкинуть пусть и не совсем целую, с утратами, кремлевскую башню со звездой? Она совсем для маленьких, конечно, но Нина помнила, как собирала и разбирала эту красоту, нанизывая ее детали на огромный закругленный штырь. Ее купил папа, когда они ходили в «Детский мир». Как можно с этим расстаться? А вот эти миленькие, полувыцветшие, но такие любимые растрепанные куколки и старенький тряпочный клоун с красным носом? А страшная кукла, которую она любила из жалости? «Нет, они вечно будут сидеть со мной на подоконнике, – думала Нина, – так веселей – все-таки не совсем одна».
Нина снова высунулась посчитать голубей. Пусто. Видимо, они спрятались под навес или сидят у Лели на балконе, она всегда оставляет им крошки. На качелях тоже никого. И соседей нет, только белье чуть раскачивалось на веревке – маленькие шапочки, крохотные распашоночки, пеленочки – весь набор для нового человечка. У тети Майи родился сыночек. Нина видела его крохотное сморщенное и совершенно некрасивое личико, совсем не игрушечное и крикливое. Новый сосед. Нина подошла на него посмотреть, когда тетя Майя выносила его во двор. Егоркой, кажется, назвали.
Нина все сидела и сидела так у окна, мусоля книжку и вспоминая, как здорово она проводила время у бабушки в деревне, откуда на днях приехала, сколько грибов сама насушила и ягод съела. Обхватив руками коленки, она подставляла лицо приятному теплому ветерку, который собирал во дворе пыль и с удовольствием обдувал ею девочкино лицо. Пора уже было собираться в школу – до начала занятий оставалось всего несколько дней. Нина вспомнила о белых огромных бантах, которые мама по ее просьбе заранее красиво и пышно завязала, чтобы не торопиться утром перед первым школьным днем. Взяла их с книжной полки и аккуратно пристроила на голове, просто приложив. И хотя она уже не маленькая, но банты были такими красивыми и пышными, что сознательно отказаться от них было невозможно. Один бант все время скатывался на пол, как колобок, но Нина снова и снова поднимала его и настойчиво всовывала в косы-«баранки», которые мама заплетала ей каждое утро. Наконец она снова села на подоконник, уже самая красивая на свете, с огромными бантами-одуванчиками, взяла книжку и уютно устроилась, посадив рядом старика Буратинку.
Родители у Нины были молодыми архитекторами, и Нина всегда хвасталась ими во дворе. «Их зовут Варя и Володя, они придумывают дома и квартиры, – с придыханием говорила она ребятам, – чтоб удобно было жить. Это их работа, не каждый так умеет. Сначала клеят домики из бумаги, показывают начальникам, но чудеснее всего, когда эти уже ненужные домики они отдают мне поиграть. Насовсем. И знайте, домики, склеенные из бумаги, называются «макет», – учила она детей. В эти бумажные макеты она играла все детство. И хотя эти белые макеты были совершенно не похожи на те, где обычно живут принцессы, но все равно играть в них было очень интересно, особенно когда рядом с игрушечными домиками росли зеленые деревья из клееных ниток, а по бумажному тротуару парами гуляли бумажные люди. Нина представляла, кто где живет из этих ненастоящих человечков, и давала им имена.
По вечерам родители очень часто уходили в гости: друзей у них было предостаточно, и их уходы стали делом совсем обычным.
– Ты уже большая девочка, – сказала мама в первый раз, когда соседка не смогла остаться с Ниной, а родителям очень-очень надо было пойти на чей-то день рождения. Ну очень-очень! – Мы с папой скоро вернемся. Котлеты на сковородке, ты знаешь. Хлеб я тебе нарезала. Чай налила. Если захочешь спать, почисти зубы и ложись, хорошо? Не жди нас.
Нине тогда понравилось, что к ней наконец стали относиться по-взрослому: она давно уже мечтала вырасти, но все никак не получалось, а тут раз – и почти большая. Сначала она, конечно, немного испугалась, что останется в квартире совсем одна, но не подала виду. И на всякий случай крепко-накрепко обняла маму с папой перед их уходом: вдруг они больше никогда не увидятся? И очень постаралась не заплакать, потому что взрослые дети плачут редко, если уж только совсем припрет. Она закрыла дверь на оба замка, еще раз на всякий случай подергала дверь и включила свет во всех комнатах. Походила по пустой гулкой квартире, прислушалась. Все звуки были знакомыми и успокаивающими. На кухне громко тикали старенькие часы в металлическом корпусе и капала по капле вода из крана. Папа все обещал починить кран, но то ли у него не получилось, то ли на это, как обычно, не хватало времени. В ванной гудела газовая горелка, которая каждый раз вспыхивала со страшным хлопком, когда включалась горячая вода. В комнатах тоже было тихо. Ничего страшного. Все родное и привычное. И со временем она совершенно перестала бояться оставаться дома за хозяйку, когда уходили родители. «Главное, не жги спички и никому не открывай дверь», – предупреждала мама.
Варя, Нинкина мама, была невозможная красавица с горючей смесью из многих кровей, которые тонко оттенялись одной, алтайской. В прабабушку ее, настоящую алтайскую принцессу из самой Каракольской долины, места священного и почитаемого, влюбился доктор, который вдруг решил уехать от обширной московской практики, чтобы изучать народные лечебные возможности. То ли ему кто посоветовал, то ли он сам пришел к такому необычному решению, но он приехал с рюкзачком за тридевять земель, оглянулся вокруг и замер от красоты: пышные кедры стоят, расшаряпились, под ними ярко-оранжевые жарки, огоньки их еще называют, прямо полями, полями, вдали чуть голубеют горы, покрытые где сплошь лесом, а где полностью лысые. И облака, белые и кудрявые, залегшие на вершинах в ожидании, пока их не сдует ветер, самим-то шевелиться лень. А по горам пасутся на вольной траве тонконогие и гривастые кони, и коршун в вышине завис над головой, высматривая полевку или суслика, да полная тишина-покой. И он не совсем поверил попервоначалу, что вся эта роскошь возможна на самом деле, долго так простоял и почувствовал, что начал растворяться, и уже непонятно, где заканчивается сам, а где начинается природа…
Постоял так еще, повдыхал целебного воздуха и пошел по наводке в аил, куда велели. Там знахарка с внучкой двенадцатилетней жила – алтайка не древняя, но мудрая, знающая, немногословная и обветренная всеми ветрами. Секреты выдавала с трудом, но, видимо, была слишком обязана рекомендовавшему, поэтому приняла столичного доктора без строптивости. Жил он целый год гостем в аиле на мужской половине, любовался на первозданную и какую-то диковатую красоту девочки, которая позвякивала колокольцами в косах для отгона злых духов. А как девочке исполнилось тринадцать, хозяйка сама предложила выкрасть ее и с собой забрать, чтобы жизнь была полегче.
Вот такая легенда, а как оно было на самом деле, никто и не помнил. Но кровушка алтайская эта, природная, целебная и могучая, влилась тогда в семейную историю и приукрасила все потомство. Со временем, с поколениями, драгоценная эта жидкость разбавилась, но не утратила пикантности. Вот и в Варваре было что-то такое, что заставляло мужчин поворачивать голову ей во след, смотреть с восхищением, и не просто смотреть, а вглядываться, а потом ловить себя на мысли: а что это было-то?
Да и Нинке с лихвой перепало красоты, нераспустившейся пока, бутонной и очень обещающей. Они с мамой и папой жили в абсолютном счастье! Нина чувствовала это счастье, оно слегка покалывало виски и щекотало ноздри. Папа не мог пройти мимо мамы просто так, не коснувшись ее, не чмокнув в шею, не шепнув на ушко что-то особенное, Нинке еще непонятное. А еще они очень любили стоять, обнявшись, все втроем. Папа брал Нину на руки, подходил к маме и обнимал ее. Нина зависала на родных шеях, попискивая от удовольствия, а родители в эти мгновения откровенно и пронзительно смотрели друг другу в глаза, словно передавали друг другу какую-то очень важную, жизненно необходимую информацию.
А потом счастье куда-то улетучилось. У Нинки перестало щипать в носу и покалывать виски. Она не понимала, что происходит, просто не чувствовала того необъяснимого, что было раньше. Перестали молча стоять втроем, чуть покачиваясь, словно стараясь друг друга убаюкать. Когда папа приходил вечером с работы, то только Нина бежала к нему навстречу, а мама продолжала греметь кастрюлями на кухне или читать, отвернувшись к окну. И к тому же по вечерам мама с папой перестали вместе ходить в гости. Нина сначала этому даже очень обрадовалась: то мама, то папа все чаще и чаще оставались с ней. Она что-то такое чувствовала, но не понимала, как это ощущение себе объяснить: стало меньше радости, что ли? Мама перестала так весело и задиристо смеяться, папа больше не называл маму ласково Варюхой и перестал пристально и как-то по-особому на нее смотреть – он просто прекратил на нее смотреть вообще и все время отводил глаза. Внутри семьи происходило что-то необычное, хотя все вроде было почти как всегда: сначала мама будила Нину, собирала ее в школу и шла на работу, потом уходил папа, потом Нина одна возвращалась домой, разогревала обед, делала уроки и ждала родителей. Все как обычно, но детская кровь уже чуяла то, что никак не решались сказать родители.
Однажды вечером грустный папа зашел к ней в комнату, присел на краешек кровати и вместо того, чтобы в который раз почитать любимого «Маленького принца», сказал каким-то не своим голосом:
– Нинок, ты знаешь, как я тебя люблю. Ты уже большая, тебе целых девять лет, и я хочу, чтобы ты постаралась меня понять. Мне надо от вас уехать. Я мог бы придумать тебе разные сказочные истории, но скажу прямо, как взрослой. Твоя мама полюбила другого человека. Так случилось, и в этом никто не виноват, ни мама, ни я, и тем более ни ты. Я уйду жить в другое место, но я всегда-всегда рядом с тобой, ты должна это знать. Мама выйдет замуж за другого человека, но мы все равно с тобой будем часто видеться.
И все. А утром он поцеловал ее, взял свой маленький клетчатый чемодан, с которым обычно ездил в командировки, и ушел. С тех пор вот уже целых два года жил где-то параллельно.
Нина все еще сидела на своем насиженном месте и скучала, глядя в вечер. Мама еще не вернулась, а отчим красил в ванной волосы басмой и пел арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Нина арию не любила, не любила она и отчима.
Он завелся в их квартире год назад – ну, может, чуть больше. Переехал почти сразу после папиного ухода. Заявился уже с чемоданами, коробками, пачками книг, перевязанных бечевками, и даже лыжами, хотя стояло лето. К лыжам были прикреплены еще ботинки и палки, которые оказались довольно небрежно связаны в один букет, и когда мама попыталась прислонить лыжи к стене, тщательно выверяя центр тяжести, эта неуклюжая конструкция все равно рухнула на пол со звоном и грохотом поперек комнаты, как только мама отошла.
Нину эти лыжи ужасно тогда расстроили. Нет, даже разозлили! Не потому, что они вдруг заняли всю комнату, и не потому, что упали, – Нина испугалась другого: неужели этот чужой дядька собирается остаться до зимы? «Он тут будет еще и на лыжах расхаживать? И будет жить в нашей же квартире?? А если все-таки вернется папа, как тогда? Он увидит этого нового, и что? Как они уживутся?»
О проекте
О подписке





