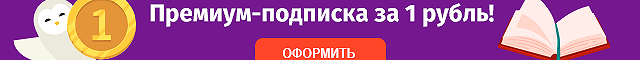
– Они самые, а на северо-востоке как раз Бермуды, – сказал я, глядя, как он разливает коньяк, и продолжил: – тысяча восемьсот пятидесятый, парусник «Морская Птица» с грузом кофе из Гондураса – на камбузе кипел чайник, все предметы на месте, людей нет. Спустя двадцать два года то же самое – «Мария Целеста». Версия – галлюциноген из какой-то рыбы – притянута за уши, потому как долгое время ничего, что подтверждало бы «рыбное отравление» не упоминалось. Да и химические анализы на галлюциногены научились делать гораздо позже. Потом – тысяча девятьсот второй, другой корабль, «Фрея», вышел из Мексики третьего октября, обнаружен двадцатого, с сильным креном и изрядно потрёпанный, словно после шторма – но штормов в это время в том районе не было. Элементы мачт поломаны, команда исчезла. В тысяча девятьсот двадцать первом – ещё один корабль, «Кэрролл Диринг». Навигационные приборы разбиты, команды нет, припасы и личные вещи на месте. Февраль сорок восьмого года – «Оранг Медан». В проливе около Суматры торговыми судами был принят радиосигнал SOS: «Теплоход „Оранг Медан“. Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа». Потом набор бессвязных точек и тире, а в конце: «Я умираю». Когда англичане нашли корабль, вся команда «Оранг Медан» была мертва. На лицах членов экипажа застыло выражение ужаса. В тысяча девятьсот пятьдесят третьем случай из серии, когда всё на месте, экипажа нет – корабль «Холчу». А недавно, уже в две тысячи третьем, ещё один похожий случай – судно «Хай Эм 6». Достаточно? И везде – нет подтверждения. Потому что «подтверждением» у нас, у прессы то есть, принято считать опубликованное мнение какого-нибудь эксперта, причастного к официальной науке. Вот только «официальная» наука от таких случаев шарахается.
Есть свидетельства случаев телекинеза, есть видео полтергейстов, есть случаи управления огнём усилием воли – всё есть, кроме официальных подтверждений. Имеются даже случаи пропажи людей и их появления спустя десятки лет такими, будто для них времени прошло меньше, а есть – наоборот, когда через пару часов возвращались стариками. И это не говоря об исчезновении целых групп людей. Например, берег озера Ангикуни, деревня эскимосов – все жители исчезли, на огне осталась готовящаяся еда, из подшитых вещей торчали нити и иголки – это тысяча девятьсот тридцатый. Что тут ещё вспомнить могу… А, вот – тысяча девятьсот семьдесят пятый. Супруги Райт – остановились в тоннеле, муж вышел из машины протереть стекло, а когда вернулся – жена исчезла. Тщательное расследование не дало никаких результатов. Остров Роанок, что так нежно любим Стивеном Кингом, находится в Северной Каролине – все жители исчезли без видимых причин, побросав ценности и вещи первой необходимости. На стволе дерева вырезано латинскими буквами – «Кроатон». Вот только нет такого слова ни в одном из языков. Ещё задокументированный случай – в тысяча девятьсот пятнадцатом году в Турции генерал Гамильтон послал на помощь союзникам – в наступление – части британского Норфолкского полка. На дороге перед походной колонной сгустилось странное облако. Несколько сотен солдат вошли в него и их больше никто никогда не видел. Тысяча девятьсот тридцать шестой, Красноярский район, деревня Елизавета. Геологи прошли через вполне себе жилую деревню, а когда возвращались – никого, на дороге брошено два велосипеда. Двери были заперты или забаррикадированы мебелью изнутри, вот только в домах – ни души. Франция, Париж, тысяча девятьсот восемьдесят пятый – некий Франк Фонтен исчез после того, как его машину накрыло туманным шаром – появился ровно на том же месте через неделю, считая, что прошло пять минут. Группа Дятлова, во главе – опытный турист, выражение ужаса на лицах, люди замёрзли насмерть, покинув палатку без тёплых вещей. В случаях с исчезновениями людей при свидетелях всегда упоминается липкий густой туман и яркое свечение, в точности, как в «филадельфийском эксперименте» Эйнштейна. Продолжать?
– То есть, ты хочешь сказать, что здесь – то же самое?
– Ты просил объяснения. Твоя версия?
– Инсценировка самоубийства, – сказал Костя, – Единственное, что можно дать официально. Понимаешь, обстоятельства дела такие.
– А сам что думаешь?
– На видео видно только одно – это не инсценировка. Это действительно прыжок. И вспышка, чтоб её… Ну или свечение. Кратковременное.
– Хорошо, а что с туманом?
– Это же ГЭС. Минус тридцать за окном, вода падает с высоты метров двадцать пять. Там всегда туман.
Выпили, и Костя продолжил.
– Его звали Серёга. Серёга Дементьев. Мы дружили. Я уехал, в Иркутск, а он там остался. Ну и родня у меня, понятное дело, там вся… Приезжаю, навещаю. Познакомились через общих друзей. Он хоть и младше меня, но какой-то… Не по годам взрослый. И друзья у него все старше него. Понимаешь… Парня довели до суицида. Виновных наказать не получится – нет тела…
– …Нет дела, – закончил я за него, – Понимаю.
– Значит, вот, – сказал Костя, открывая папку, лежавшую у него на коленях, – Ты ведь журналист?
– Я звукореж, – поправил я.
– Я читал твои статьи в сети, – сказал Костя, протягивая мне листок, – Так что не надо мне тут. Материалы дела, я тебе, сам понимаешь, дать не могу. Но – вот контакты его друзей. А вот эта стопка – ксерокопия его дневника. Хоть в статьях своих или рассказах напиши про парня. Пусть знают, кто его и как.
Я прекрасно понял тогда Костю. Он хотел справедливости, хоть какой-то – и сделать ничего не мог. Поэтому и доверился человеку – нет, не человеку даже – знакомому голосу по радио, интернет-образу… Знал бы он настоящего меня – ничего бы этого не было.
Он поставил ещё условия. Я согласился.
Наверное, это и есть – начало?
Пожалуй, да. История началась с этого. А книга началась с другого звонка, очень похожего на первый, спустя шесть лет:
– Алё? Кхм… Мне нужен Майндер. Егор Майндер.
– Да, это я, мы знакомы?
– Можно сказать, что заочно – да. Видишь ли, я тут прочёл твою статью обо мне. Ты написал её несколько лет назад. Не вспомнишь уже, наверное. Я – Сергей. Дементьев. Тебе ещё интересно? Тогда можем встретиться.
И, наверное, получилась бы очередная история «попаданца» в прошлое-будущее-параллельный мир – нужное подчеркнуть. От «Янки при дворе Короля Артура» до «Обитаемого Острова» тема исчерпана и закрыта, и вряд ли тут есть, что рассказать нового – остаётся лишь лепить с нуля миры, прошедшие совсем иной путь становления цивилизации. Вот только, почему-то, действующие лица таких миров поступают просто и понятно, так, будто они жили среди нас всё время, прежде чем стать героями историй – а вернее, сначала участниками, а потом – героями.
Но что, если бы не пала Римская Империя, что, если бы вместо «а всё-таки она вертится» мы бы услышали покаяние в ереси? Что, если бы вода в Мировом Океане была пресной, что, если бы Крестовые Походы закончились полной победой крестоносцев, что, если бы Русь приняла католичество, а что, если?… А если не только история другая, что, если окружающая среда чуть иная – как бы развивалась наука, культура, искусство, техника? Ведь у каждой построенной цивилизации есть начало и предпосылки, и у каждого научного открытия они есть – и есть причины гибели Империй, смены эпох, у каждой войны есть поводы, у которых, в свою очередь, есть глубоко идущие корни.
У всего вокруг есть некий основополагающий фактор, предпосылки причин, и есть начало и у этих предпосылок. Может, неизведанное потому и остаётся неизведанным, что не было причин для запуска некоего процесса познания?
Что, если пропавшие в «необъяснимых» случаях люди где-то всё это время находились?
Задумываетесь ли вы об этом, глядя вокруг?
Или есть мысли поважнее?
У Сергея Дементьева они были, как у любого из нас. Тогда, поздним зимним вечером, прежде, чем оставить последнюю запись в своём дневнике, он смотрел на деревья вокруг, слегка освещённые фонарями на центральной аллее занесённого снегом парка. Смотрел и шёл, думая о своём.
Он неспешно шагал по тропинкам, протоптанным на месте дорожек – никто их не подметал сибирской зимой, где за ночь снега может навалить по колено. Похрустывал стоптанный снег, утрамбованный тысячами шагов. Нет, не тех, что оставляли прогуливающиеся горожане – зимой парки теряли свою основную функцию, превращаясь вот в такую паутинку тропинок, только и нужных, чтобы срезать путь.
Мимо, мимо, сквозь тени, бросаемые голыми и чёрными ветками тополей. Мимо поворотов и пересечений тропинок, мимо столбов и пятен света от ртутных ламп, прочь – туда, где свет сменяется отсветами, где тени перемешиваются с отражённым снежинками свечением ртути. Дальше, дальше – в полутень, в которой огни города отражаются от нависших туч, ударяются об искрящийся бархат сугробов, чтобы вновь бросить слабый отсвет в небо.
Мимо знакомой скамейки. Нет, ничего особенного в ней не было – даже одной из любимых скамья не была. Наоборот. Единственное место в парке, подходить к которому Дементьев столько раз не решался. Просто там, в тени нависающей акации, в летней прохладе, сидела девушка с крашеными в чёрный и стрижеными под «каре» волосами, которая всегда, когда он её видел, читала. Даже лицо её Дементьев разглядел не сразу, а, наверное, только на десятый раз, проходя мимо. Неизменные очки – разной формы, чаще тёмные, но оттенками различаются. То наклонена к книге – и не разглядишь черт лица за упавшими волосами, то, наоборот – книга перед глазами, и тогда оставалось только читать надписи на обложке.
Лоуренс. Фитцджеральд. Булгаков. Хемингуэй. Были и другие, не классика – Ирвин Уоллес, Андрей Белянин. Были Блок и Цветаева, а ещё – Байрон. Это всё, что запомнилось, но всегда – лето, прохлада, скамейка – и девушка с книгой.
Дементьев тоже любил читать. Но его книги были другими – Лем и Брэдбери, Асприн и Желязны, Хайнлайн и Шекли. Фантастика и фэнтези, всё, что уносило от серой обыденности туда, где горели спирали непознанных галактик и где, пронзая флюиды невиданной магии, в небесах носились драконы.
Сколько раз он собирался подойти и к этой скамье, сколько раз замедлял шаг, чувствуя, как начинает рваться сквозь рёбра от волнения сердце, и… И столько же раз не решался.
Мимо, мимо этой скамьи, оставляя воспоминания и обещания себе, что в следующий-то раз, как только возможность, то обязательно…
Прочь эти обещания. Девушка с книгой так и остались там, в тени памяти, в тени этой нерешительности. Решился он подойти к другой. И место было другое – квартира друга, вечеринка…
То ли алкоголь, то ли и правда – но возникло чувство, что вот она – взаимность. И, переселив себя, подсел рядом, поздоровался, заговорил… Ника. Точнее, Вероника, почему-то не любившая имя «Вера» и предпочитавшая в качестве сокращения имени вторую её часть. Да, она не была так загадочно притягательна, да и не читала почти ничего. Но она была красива и женственна – этого хватило, чтобы впервые для Дементьева мир сжался изо всей своей ширины в один только образ.
И было, было – и поцелуи, и ночь, проведённая вместе, и чувство счастья, и казалось, что так будет всегда. И были взгляды, полные обожания с его стороны, а она в ответ смеялась, проказничала, капризничала – но, казалось, платила взаимностью. И не было больше нужно ничего. И хотелось всю свою жизнь посвятить этому счастью, отбросив всё остальное как ненужное, второстепенное.
Дневник был исписан словами о Нике, переполнен эмоциями и переживаниями. Влюблённость ли, или самая настоящая любовь – поди теперь разбери. Ожидание встреч, восторг от проведённого вместе времени, эйфория от близости. Это люди постарше со шрамами на сердце хмыкнут – влюблённость, бывает. И будут объяснять отличия этого состояния от любви. Но для Дементьева различий не было.
Да и есть ли она вообще, эта разница?
Хлопает по бедру небольшая сумка через плечо в такт шагам. В ней – дневник, на случай, если срочно потребуется записать какую-то мысль, сигареты с запасом, бумажник. Это всё, что было с собой, да ещё и надежда – что вдруг здесь, на выходе из парка, он всё-таки увидит, встретит Её, свою Нику, которая пропала невесть куда.
Пока был на сессии, она вдруг перестала отвечать на сообщения. Позвонил – трубку сняла другая девушка. И слова, слова на целый лист дневника:
– Я не знаю никакой Ники. Не звони сюда больше.
Он и не звонил. Но не верил, не думал, что всё – это конец. Волновался, не случилось ли чего. Придумывал разные версии для себя.
Глянул на часы – такие уже почти не найти, механические, водонепроницаемые, со стеклом, выдерживающим даже достаточно ощутимый удар. «Командирские». Подарок от отца – как оказалось, на вечную память. На часах – половина девятого вечера. На памяти – уже скоро пять лет. Пять лет, как его не стало.
В «жигулях» седьмой модели не было подушек безопасности, как во встречной «тойоте», которая, несмотря на правый руль, пошла на обгон грузовика с выездом на встречную полосу. Любой другой водитель поостерегся бы и проявил бы осторожность, но – не сын замначальника городского ОВД, который привык к отцу, решающему любую проблему, и к курению травки, как средству скрасить свою скудную на интересные события жизнь.
И три года как не стало матери. Сначала – вино по вечерам, чтобы вернуть атмосферу, когда каждый семейный вечер за приготовленным ужином – как праздник. Потом вино сменилось напитками покрепче. Потом «покрепче» вошло в привычку, а привычка переросла в зависимость – и в глазах уже не оставалось ничего человеческого:
– Ну хоть бутолычку пива… похмелиться… ну купи, сынок, ну купи…
– Нет, мама.
– Будь ты проклят! – верещала тогда она так, что слышали соседи.
И однажды – недоглядел. Вытащила деньги из кармана, выбежала в пивной, круглосуточно работающий киоск, что недалеко от ДК. Там, где не наигравшиеся в компьютерные симуляторы гонок «сынки» устраивали заезды и крутили «пятачки» на купленных отцами «тойотах», в которых от спортивного было, разве что, чуть внешнего вида, состоявшего из прикрученного наспех антикрыла и наклеек.
Потом, конечно, всё вышло так, будто она сама под колёса выбежала. Вот только ответа на вопрос – а можно ли среди ночи рассекать на скорости за сотню по одной из центральных площадей города, Дементьев так и не получил.
В шестнадцать многие уже становятся слишком взрослыми, чтобы иметь опекунов – но тётка по материнской линии таковой, согласно нормам закона, была назначена. Опекать Сергея она предпочла в его трёхкомнатной квартире, переехав из проваливавшегося в землю двухэтажного барака времён строительства БАМа вместе с сыном. Жизненное пространство Дементьева быстро сократилось до одной комнаты. Ему исполнилось и восемнадцать, и девятнадцать – но выселить родных, всё-таки людей, единственных, что у него остались, как говорится, «рука не поднялась». Поэтому ему было хорошо где угодно, но не дома. С кем угодно, но не со сверстниками, не знавшими ни проблем, ни забот, и подтрунивавших над единственными зимними джинсами парня.
Да, единственными. Но чтобы их купить, приходилось и таскать доски на лесопилке недалеко от города, и коробки в магазинах перекидывать. Пока одноклассники выступали за активный отдых и спорт, Дементьев валился без сил вечерами на кровать и брал в руки книгу. И тогда пропадали четыре стены, пол и потолок – и открывались новые, неизведанные миры.
Мимо, мимо, за спиной остался парк, показался вдали автомобильный мост, соединяющий огромную промзону на правом берегу с жилыми массивами левого. Как бы промышленность тут ни разворовывали, как бы ни грабили город наместники из Москвы, а до ручки заводы не доводились никогда. Стояли, работали, давали нищенскую зарплату, но всё же какое-то, а трудоустройство.
Горят справа, за рекой, редкие фонари промышленных объектов, отсвечивают прожекторы, а слева, один к одному, безликая застройка типовых пятиэтажек бросает тусклый свет занавешенными окнами.
Мимо, дальше…
А вот и универсам, в котором когда-то таскал коробки. А с торца – чёрный ход, и рядом другая дверь, с вывеской «Сервис». Внизу, маленькими буквами – список всего, что только изобретено человечеством, чтобы скрасить унылый быт в бетонных муравейниках.
– Чай будешь? – спросил как-то запыхавшегося Дементьева, таскающего коробки с товаром для многочисленных торговых точек под крышей «Универсама» молодой мастер, куривший на крыльце «Сервиса», – Заходи, а то скучно – время скоротать до закрытия.
Так Сергей познакомился с Андреем, а заодно и – после уже – миром полупроводников, логических схем, электротехники и радиоэлектроники, окунулся в реальность драйверов и операционных систем. Так появились друзья. Так появилась профессия – таскать коробки больше не приходилось.
В сервисе нашлось достаточно полуживых запчастей, чтобы собрать комп на базе гиперпоточной «четвёрки» производства «Интел», а с появлением сотовой связи у Дементьева открылось хоть и узкое, но окошко в мир.
Мимо «Сервиса», ставшего вторым домом и работой. Работой, которой хватило, чтобы в прошлом году съездить в область и поступить на очное в авиатехникум. В тайге, где с дорогами беда, малая авиация без работы никогда не останется. Требовались пилоты. Но вот с деньгами в большом городе не заладилось, да и устроиться толком не получилось – пришлось возвращаться, переводиться на заочное, да ещё и приплачивать директору техникума. Для военкомата Дементьев числился на очном обучении, а потому отсрочке от призыва подлежал.
Мимо, дальше – оставляя за спиной квартал за кварталом. Покусывает кожу мороз. Градусов двадцать пять, не меньше, с наступлением темноты продолжает ощутимо падать температура. Прочь с улицы, бегом от мороза, от нервного напряжения, что осталось от закончившейся сессии. Вперёд – в тепло квартиры друга, в тепло компании друзей, в атмосферу праздника – сегодня, всё ж таки, у Андрея День Рождения.
О проекте
О подписке