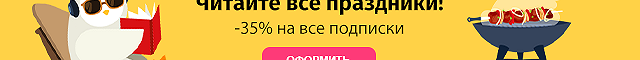
– А вы прекрасно выглядите, – ответил я ему на «вы», все еще чувствуя себя студентом перед уважаемым профессором.
– Слушай, старик! – сказал он. – У меня есть замечательная идея для совместного фильма! Нужна иностранная фирма. Ты можешь протолкнуть мою заявку в Голливуде?
– Боюсь, что нет. Я уже не работаю в кино, я пишу книги.
– Жаль… – Он смерил меня пристальным взглядом. – А сколько тебе лет?
– Полсотни уже, – усмехнулся я.
– Небось, еще трахаешь баб, как тогда в Болшеве?
– Ну-у-у… – произнес я смущенно, эти темы я еще никогда не обсуждал со своими профессорами.
– Конечно, трахаешь… – Он вздохнул. – А я уже нет. Не могу! – И, обреченно разведя руками, повернулся и ушел к буфетной стойке.
Глядя ему в спину, сразу ставшую какой-то старо-сутулой, я вдруг подумал: господи, неужели и в революцию люди думают только об этом? И неужели и я в его годы буду думать только об этом?
…С тех пор, вспоминая Сегеля, я вижу его спину, уходящую от меня в никуда.
Но, признаюсь, проросшая в противне пшеница растет теперь и на моем подоконнике. И каждый раз за завтраком я вспоминаю своего первого болшевского учителя сыроедения…
* * *
Эльдар Рязанов был полной противоположностью Якову Сегелю. Шумно вселившись в соседнюю комнату в «моем» коттедже, он тут же постучал в мою дверь:
– Кончай работать! Помоги мне принести продукты из машины!
Вдвоем мы пошли к его «Волге» и принесли в коттедж: несколько желтых трехкилограммовых шаров сыра, с десяток палок сервелата и колец охотничьих колбас, пятикилограммовые кирпичи ветчины и буженины, завернутые в непромокаемую бумагу-кальку, бутылки с кефиром, молоком и боржоми, два пудовых арбуза, три дыни и дырчатый ящик с персиками и виноградом. Я поинтересовался:
– Это из Елисеевского? У вас день рождения?
– Да нет! – отмахнулся он. – Это мы с тобой съедим за пару дней. Ну, и Нина нам поможет…
О романе Эльдара с Ниной Скуйбиной, самой красивой редакторшей (или самым красивым редактором?) советского кинематографа, знал тогда весь «Мосфильм», и весь Дом творчества «Болшево» радовался за них обоих. Но даже когда на вечерние чаепития на нашей веранде (закутавшись в плед, Нина всегда молча сидела на диване) к нам приходил еще и маленький худенький Эмиль Брагинский, постоянный соавтор Эльдара, – даже тогда я не знал, как мы справимся с таким количеством еды. Однако проходило три дня, и Эльдар говорил:
– Продукты кончились. Поехали в магазин.
Мы садились в его «Волгу», ехали в продмаг на Первомайку. Это был все тот же 1970-й или 1971-й, продукты еще были в советских магазинах, и Эльдар изумлял продавщиц:
– Какой у вас сыр? Советский? А голландского нет? Ладно, нам четыре головки. Нет, целиком четыре головки сыра! Так, а копченая колбаса есть? Шесть палок колбасы…
В моем детстве самыми знаменитыми – после Райкина – комиками были высокий и худой Тарапунька и маленький толстячок Штепсель. Не будь Рязанов и Брагинский выдающимися кинематографистами, они могли бы составить такую же эстрадную пару – широкоформатный жизнерадостный Эльдар и мелкокалиберный Эмиль, вся грусть еврейского народа. В Болшеве они вдвоем написали сценарии лучших рязановских комедий – «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Вокзал для двоих» и другие. Но в те дни, когда Эльдар уезжал из Болшева на «Мосфильм», Эмиль филонил и запоем, даже в столовой, читал в оригинале американские детективы в ярких обложках. Однажды я с завистью спросил:
– Эмиль, откуда вы так прекрасно знаете английский?
– Я не знаю английский, – сказал Эмиль. – Точнее, я вслух не могу произнести ни слова из того, что читаю. Потому что я никогда не учил этот язык и не был за границей. Но читаю свободно – начал читать со словарем, а потом выбросил словарь и просто догадываюсь, что значит каждое новое слово, когда оно попадается в пятый раз…
В 1986-м в США я прочел в американской прессе, что в Торонто на кинофестиваль приезжает советский кинорежиссер Эльдар Рязанов. Жил я тогда под Нью-Йорком в Катскильских горах, но телефон работал исправно, я вызвонил в Торонто директора фестиваля, выяснил, в каком отеле будет жить советская делегация, и…
Ровно в девять утра я позвонил Рязанову в номер, но ответил не Эльдар, ответил женский голос, и у меня было меньше секунды, чтобы понять, с кем Эльдар прилетел в Торонто.
– Нина, с приездом! – сказал я. – Welcome to Canada!
– Эдуард, – ответила она. – Я так и подумала, что это от вас розы в нашем номере. Мы с Эликом будем через несколько дней в Нью-Йорке. Увидимся?
В Нью-Йорке, расставаясь с Эльдаром перед его отъездом в аэропорт, я открыл багажник своей машины, там лежали мои книги «Красная площадь», «Журналист для Брежнева», «Чужое лицо».
– Возьми, – сказал я, – почитаешь в самолете.
– Ты с ума сошел! – сказал Эльдар. – Как я буду читать твои книги в советском самолете?!
До конца советской власти оставалось еще целых пять лет.
* * *
Но вернемся в 1968–1969-й. До конца советской власти оставалась вечность, точнее – даже предположить, что она когда-нибудь грохнется, не мог никто, включая Андрея Смирнова, ярого антисоветчика и моего нового соседа по болшевскому коттеджу. В шестьдесят девятом Андрею, сыну знаменитого автора романа «Брестская крепость», было двадцать восемь, мне – тридцать один, а нашему с Андреем соавтору Вадиму Трунину – тридцать четыре. Втроем мы занимали зеленый коттедж, с Андреем Вадим писал режиссерский сценарий фильма «Белорусский вокзал», а со мной обсуждал идею нашего будущего сценария «Юнга Северного флота». Но из нас троих младший был самым яростным критиком советской власти, и каждый вечер наш коттедж слышал в адрес «мудрого руководства» то, что по тем временам тянуло если не на «вышку», то, как минимум, на «четвертак». Я дивился его громкоголосой отваге, Вадим отмалчивался, но, в принципе, в наших отношениях к Софье Власьевне царило полное единодушие. А поскольку это соседство длилось не день, не неделю, а месяцами – Андрей стал снимать «Белорусский вокзал» и ездил на съемки из Дома творчества, а мы с Вадимом трудились над своими сценариями – это соседство вскоре переросло в настоящую дружбу, я даже стал шафером у Вадима на свадьбе. И каково же было мое изумление, когда они оба вдруг стали запираться от меня в комнате у Вадима, сидели там заполночь, даже от чая-коньяка отказывались, но ни одна из их пишмашинок не стучала, зато за тонкой деревянной дверью шуршали какие-то бумаги. А когда утром мы уходили в столовую на завтрак, Вадим запирал свою комнату на ключ и предупреждал уборщицу тетю Дору, чтобы она там не убирала.
Обиженный их секретничанием, я стал приставать к обоим:
– Что вы там прячете?
Сначала они отмалчивались, а потом Андрей сказал:
– Приезжал Сергей Хрущев, привез мемуары отца.
– Так дайте почитать!
– Нет, – сказал Вадим, – тебе в это лезть нельзя, ты и так тут на птичьих правах…
А когда я стал настаивать, Андрей объявил:
– Всё, мемуаров больше нет, Сергей их увез.
Затаив обиду, я не раз говорил Вадиму: «Старик, я не злопамятный, но имей в виду – память у меня хорошая». И только много лет спустя в книге «Никита Хрущев» Сергея Хрущева я прочел, от чего чисто по-дружески уберегли меня тогда Вадим и Андрей.
«…В 1969 году мемуары [Н.С. Хрущева] стали осязаемы… У нас в руках была отредактированная мною рукопись объемом около тысячи машинописных страниц, охватывающая период от начала 30-х годов до смерти Сталина и ареста Берии… Летом 1969 года […] я решил найти настоящего писателя, который взялся бы за литературную обработку… Я дружил с известным сценаристом Вадимом Васильевичем Труниным… Вадим предложил взять на себя литературную обработку, заметив, что, хотя это огромный труд и такая работа оплачивается очень дорого, он сделает ее бесплатно. Выход был найден… Трунин приступил к работе… А тем временем над нашей головой сгущались новые тучи… Еще в марте, а точнее, двадцать пятого, Андропов направил в Политбюро строго секретную записку: “В последнее время Н.С. Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну… При таком положении крайне необходимо принять срочные меры оперативного порядка, которые позволяли бы контролировать работу Н.С. Хрущева над воспоминаниями и предупредить вполне вероятную утечку партийных и государственных секретов за границу. В связи с этим полагали бы целесообразным установить оперативный негласный контроль над Н.С. Хрущевым и его сыном Сергеем Хрущевым…”»
Я не могу дальше цитировать Сергея Хрущева, это займет слишком много места, так что представьте сами, что началось, когда всесильный Андропов дал указание «принять срочные меры оперативного характера». Целый отдел КГБ ринулся на поиски мемуаров Хрущева, круглосуточная слежка за Сергеем и его машиной велась даже на улицах Москвы, обыски происходили у всех его друзей, включая Трунина, их таскали на допросы – это и сейчас читается, как самый крутой детектив, а когда-нибудь, я убежден, на этом материале будет сделан фильм покруче «Мертвого сезона»!
Но вернемся в Болшево. Теперь я понимаю, чем был занят Трунин, когда сказал мне по поводу «Юнги Северного флота»:
– Старик, я сейчас по горло занят «Белорусским вокзалом». Поэтому давай ты сам напиши первый вариант «Юнги», а потом – даже если студия его не примет – тебе больше работать не придется, я сам напишу второй вариант.
Я согласился. Идея «Юнги» родилась из короткой газетной информации о слете на Соловках бывших курсантов Школы юнг Северного флота, потом в Ленинской библиотеке я поднял все заполярные газеты 1942–1945 годов и архивные материалы Штаба Северного морского флота, касающиеся создания этой Школы, затем нашел трех бывших курсантов этой Школы, но даже после этого посчитал, что моего опыта службы в Советской армии недостаточно для написания такого сценария. А Трунин учился в Суворовском училище, то есть сам бог велел пригласить его в соавторы. Но ни мой первый вариант сценария, ни трунинский студию не устроил, третий вариант мы писали вместе. Работа шла очень трудно, сценарий давался нам с боями буквально за каждое слово. Наверное, это можно сравнить с работой двух кузнецов – один длинными щипцами держит докрасна раскаленную металлическую болванку, а второй кувалдой бьет по этой болванке с такой силой, что огненные брызги металла летят во все стороны. Вот так мы работали, споря докрасна и до хрипоты, и были рады, если за день выходила одна страница текста. Но когда рядом, буквально в соседних комнатах работают Брагинский с Рязановым, Гребнев с Райзманом, Ежов с Кончаловским, Шлепянов и Вайншток с Кулишом, Шпаликов с Хуциевым и Данелия, то вас невольно заряжает и подпитывает энергия этого творческого поля. Помню, когда у нас с Вадимом не шла, хоть лопни, одна сцена, мы пошли в соседний коттедж к Валентину Ежову, автору «Баллады о солдате» и других шедевров.
– Валя, выручай! Во время войны на Соловках была Школа юнг, почту туда привозили с пристани раз в день на грузовой машине. Нам нужен диалог курсантов во время поездки в кузове этой полуторки. Но не идет диалог! Что загрузить в этот кузов? Картошку – банально. А что еще?
– Валенки, – сказал гениальный Ежов, и сам бывший моряк.
И правда – как только мы загрузили кузов валенками и посадили на них наших пацанов-курсантов, сцена пошла!
Вот что такое Дом творчества, где ты работаешь бок о бок с мастерами!
Но вечером, за ужином в общей столовой Дома творчества юная жена Трунина Алена (дочка Майи Кармен, будущей Майи Аксеновой) спросила нас:
– Сколько вы сегодня написали?
– Страницу, – гордо сказал Трунин.
– А я вчера встретила в Переделкине жену Юлиана Семенова, – сообщила Алена. – Она сказала, что Юлик за день пишет двадцать страниц.
Я посмотрел на Вадима. Его лицо налилось кровью так, что, казалось, лопнет сейчас. И лопнуло – он вдруг рубанул кулаком по столу и крикнул:
– Молчать! Мне не первая жена говорит, что Семенов пишет двадцать страниц в день!
Всеобщий хохот был куда громче, чем от острот Иосифа Прута.
Который, кстати, вовсе не был импотентом, а даже в свои семьдесят пять, чуть прихрамывая на фронтовом протезе, запросто выходил к завтраку с приезжей сорокалетней блондинкой…
* * *
– А знаете, как Никита разыграл Сергея Михалкова? Никита, расскажи!
– Не буду я ничего рассказывать…
Всегда одетый так, словно он только с приема в английском посольстве, в прекрасном темном, с искринкой, костюме, импортной белоснежной сорочке и красной бабочке, Никита Владимирович Богословский был не меньшим, если не большим, модником, чем Аркадий Райкин. Сидя на веранде в компании киношных мэтров и их жен, он с небрежным хвастовством демонстрировал очередную импортную диковинку – «Полароид», которым фотографировал Райкина, Утесова, Райзмана и остальных присутствующих. Не помню, кто из них (да это и неважно) продолжал рассказывать про очередной розыгрыш «зловредного» Богословского.
– В сорок третьем Михалков с Регистаном написали Гимн Советского Союза. С тех пор этот гимн каждый день играли по радио по всей стране, авторские текли Михалкову постоянно, плюс три Сталинские премии – короче, он стал первым поэтом страны. И вот, уже после войны, у Михалкова раздался телефонный звонок. «Сергей Владимирович, извините, вас беспокоят из Московской патриархии. Его святейшество просит вас написать нам церковный гимн нашей патриархии». «Д-да в-вы что! – возмущенно зазаикался Михалков. – К-как вы смеете м-мне п-предлагать?!» – «Сергей Владимирович, Его святейшество сказал – любой гонорар! Вы подумайте, а мы вам позвоним через месяц». Через месяц – новый звонок: «Сергей Владимирович, Его святейшество интересуется, что вы решили». – «Н-ну, я н-не знаю. Я атеист, к-коммунист, я не могу…» – «А мы вам поможем, пришлем всю нужную литературу. И не забудьте, мы согласны на любой гонорар! Лишь бы вы написали!» Через неделю Михалков получил большой пакет с религиозной литературой, еще через пару недель – новый звонок: «Сергей Владимирович, Его святейшество готов лично помочь вашей работе, проконсультировать и вручить аванс. Он приглашает вас к себе на дачу, в субботу мы пришлем за вами машину». И в субботу пришел черный «ЗИЛ», повез Михалкова в Переделкино, где была дача патриарха. Но, не доезжая до этой дачи, машина вдруг свернула на соседнюю писательскую, а там, прямо во дворе, Михалкова встретили двадцать советских писателей: «Что, Сережа, за авансом приехал?» Скажи, Никита, так было?
– Не помню… – уклонился Богословский и спрятал «Полароид».
Закончив очередную партию в преферанс, все шли на обед, а после обеда престарелые киноклассики уходили вздремнуть, а их жены усаживались в белую «Волгу» Лили Бернес, вдовы великого Марка Бернеса, и разъезжались по окрестным сельским магазинам в поисках импортной одежды. Потому что как раз в те годы для оживления умирающего колхозного производства сельские кооперативы получили от Косыгина право прямых бартерных сделок с братскими странами и в обмен на заполярные меха, башкирский мед и трактора «Кировец» завозили в сельские районы кой-какой дефицит. При этом самый качественный не лежал, конечно, в открытой продаже, а, называясь ширпотребом, товаром широкого потребления, реализовывался с черного хода очень узкому кругу потребителей.
Проводив взглядом выехавшую из ворот «Волгу», я сказал сидевшим за соседним столиком:
– А вас, значит, не взяли в магазин?
– Да, нас уже никуда не берут. Кончился спрос, – ответил Утесов своим всенародно известным глуховатым баском и с характерной одесской интонацией.
– А хотите, я вас повезу? Я с машиной, – предложил я с небрежным шиком нового автовладельца. Месяц назад на гонорар за сценарий для Свердловской студии я купил советский «Линкольн» тех лет – подержанный зеленый «жигуленок» шестой модели. – Я как раз еду в Тарасовку, там директор магазина – мой знакомый. Он часто получает дефицит из Финляндии.
Утесов переглянулся с Райкиным.
– Или поехать? – спросил он его с той же неподражаемой одесской интонацией.
– Поехали, Аркадий Исаакович! – сказал я. – Ваш размер там тоже найдется.
Через десять минут мы выехали из ворот Дома творчества. В моем «жигуленке» сидели сразу три корифея советской культуры: впереди тучный Леонид Осипович Утесов, а на заднем сиденье – великолепный Аркадий Исаакович Райкин и Юлий Яковлевич Райзман. Что в переводе на западные стандарты было бы адекватно Фрэнку Синатре, Бобу Хоупу и Сидни Люмету. При этом появление в моей машине Юлия Яковлевича означало его примирение с моим не совсем, как он считал, кошерным поведением. Дело в том, что размещение за столиками в столовой было Алексеем Павловичем Белым, директором Дома, строго регламентировано. Самые выгодные позиции на солнечной, то есть на правой стороне у окон в парк он отдавал киноклассикам по степени их: а) знаменитости, б) времени проживания в Доме творчества. А поскольку Райзман и Юткевич годами жили в Доме в «своих» самых больших комнатах на втором этаже, то и столовались они за самым первым столиком на стыке двух огромных окон в парк. Таким образом, вид у них открывался практически панорамный и на парк, и на три коттеджа. И по утрам, когда они ровно в девять усаживались завтракать, они могли легко наблюдать, кто и когда выходит из коттеджей и куда направляется.
Юлий Яковлевич был очень сдержанным и замкнутым человеком и общался, в основном, только со своими сценаристами – Габриловичем и Гребневым, да и то лишь по утрам, в парке, когда с шагомером в руке целеустремленно уходил от инфаркта по Большому гипертоническому кругу. Но мы, молодежь, относились к нему с почтением, а я так и с восхищением его уникальным режиссерским даром: однажды, уж не помню на съемках какого фильма, он одной из своих актрис так показал, как кормить грудью ребенка, что и она, и все женщины его киногруппы ахнули от достоверности. И это при том, что у самого Райзмана с его женой Сюзанной детей не было…
Как бы то ни было, мое общение с Юлием Яковлевичем годами ограничивалось лишь фразами «Доброе утро» и «Добрый вечер». И вдруг как-то утром он не при всех, а в коридоре догнал меня, взял за руку и сказал:
– Эдуард, это уже слишком! Ведь ей нет и пятнадцати лет!
Я мысленно ахнул, тут же поняв, о ком идет речь – утром, в девять, как раз когда Райзман и Юткевич садились завтракать у окна с видом на коттеджи, от меня ушла крохотная цирковая гимнастка Ниночка.
– Юлий Яковлевич, клянусь: ей уже восемнадцать!
Он молча повернулся и ушел, не сказав ни слова, а потом отвечал на мои «С добрым утром» только сдержанным наклоном головы. А я стал открыто привозить Нину в своем «жигуленке», заказывать ей завтраки и ужины и демонстративно – она же взрослая! – приводить в столовую. При этом Нина действительно выглядела Дюймовочкой – блондинка в коротенькой юбочке, с походкой балерино-гимнастки, голубенькими глазками и острыми грудками, от которых старики с трудом отрывали взгляды, а их жены ревниво егозили на стульях. Больше всех этому потешался Юлик Гусман, а когда Нина, садясь в мою машину, говорила «Эдик, ехай!», он на заднем сиденье просто сползал на пол от хохота. А потом – за обедом и за ужином – сам возглашал на всю столовую: «Эдик, ехай!». (Несколько лет спустя Ниночка с этой фразой попала в мой роман «Красная площадь», а не так давно и в российский телесериал по этому роману.)
Но вернемся в Болшево. Сев вместе с Утесовым и Райкиным в мою машину, Юлий Яковлевич тем самым снял с меня свою обструкцию.
О проекте
О подписке
Другие проекты
