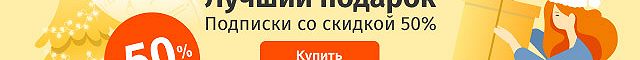
Все перевернулось в моей голове. Зачем я трачу усилия? Может, и всех остальных своих пациентов следует просто сажать на ковре перед камином и устраивать им общение с Аидой? Если она так целебна, я договорюсь с ней, и она каждый раз будет вбегать сюда с криком о пожаре.
Часть денег за терапию пойдет ей, часть в семью. В кабинете я сделаю оранжерею, а бородатых Вундтов и все дипломы сожгу зимой в камине вместе с рамочками – в доме хотя бы ненадолго станет теплее.
Господи, неужели раздражение, которое я так безуспешно прячу от самого себя, – результат моей ревности к Аиде? Или это досада от утраты власти над пациентом?
– Нет, учиться на доктора – это слишком дорого, – ответил Рихард.
– Тогда откуда ты все знаешь? – спросила Аида.
Рихард печально улыбнулся.
– Когда лучшие профессора Берлина каждый день повторяют тебе одно и то же… а лучшие трупы Берлина безмолвно тянут к тебе сухожилия… в надежде, что ты наконец запомнишь их названия… чтобы их отпустили в мир вечного покоя…
С этими словами Рихард в мольбе протянул сухожилия к Аиде, словно он и есть тот труп, который хочет, чтобы его отпустили в мир вечного покоя. Аида рассмеялась, остановила руки Рихарда, положила ладонь ему на грудь. Рихард нежно положил свою ладонь поверх ладони Аиды.
– Грудинно-реберная часть большой грудной мышцы… – печально сказал он, прижимая руку Аиды к своей груди.
На мой отцовский взгляд, это уже переходило все границы.
– А я, между прочим, сижу там и жду! – сказал я.
– Простите… – сказал Рихард.
– Продолжим? – сказал я.
Рихард бросил взгляд на часы.
– Время кончилось, – сказал он. – Мне надо идти.
Рихард поднялся с пола и направился к выходу. Я смотрел ему вслед в полной растерянности.
Спустя минуту я стоял в кухне со стаканом воды. За окном подпрыгивающей походкой уходил Рихард. Я перевел взгляд на эркер своего дома. В окне Аиды шевельнулась штора.
Я бесшумно вошел в комнату дочери. Она стояла у окна и смотрела вниз, прячась от Рихарда за шторой. Никакой спешки на урок музыки не было и в помине. Я подошел и задернул штору прямо перед ее носом. Аида обернулась.
– Я же просил не попадаться на глаза пациентам, когда они приходят в дом, – сухо сказал я.
– Папа, но наш дом горел! Это был пожар! – воскликнула Аида. Глаза ее были полны ужаса.
Я понимал, что чем ужаснее мог быть возможный пожар, тем оправданнее становилось вторжение Аиды в мой кабинет во время работы с интересующим ее пациентом.
– Пожар? – иронично спросил я. – Во время которого ничего не сгорело? Откуда ты его знаешь?
– Мы вместе сдавали кровь, когда к нам приезжала бабушка, – сказала Аида.
Мама Рахели – Леа – действительно приезжала к нам погостить на некоторое время. У нас она попала в больницу, потому что ее лимфоузлы увеличились и болели. К сожалению, выяснилось, что у нее рак крови и помочь ей уже нельзя. Рахели предложили сдать для нее кровь. О том, что после Рахели Аида вопреки правилам – слишком молода для донорства – тоже сдала кровь, она никому из нас не рассказала.
Кровь родственниц на какое-то время взбодрила Лею – она повеселела, и у нее даже возникли силы поехать умирать к себе домой в Мюльхайм.
Ее не стало через полгода. Рахель и Аида были рядом с ней до последней минуты. Они похоронили ее, а через пару лет возблагодарили бога, что Леа умерла естественной смертью – вместо того, чтобы принудительно отправиться на тот свет в рамках каких-нибудь наукообразных государственных программ по улучшению населения Германии.
Аида молча смотрела на меня, машинально потирая руку, из которой недавно брали кровь. Я молча смотрел на дочь.
– Если ты видишь дым, но не видишь огня, – веско сказал я, – надо всего лишь открыть окно. Дым вылетит. Ты могла справиться с этим сама. Если ты не была уверена в своих силах, попросила бы маму.
Я говорил бесспорные вещи. Аида не могла ничего возразить, опустила глаза и помрачнела. Я молчал. Она бросила на меня короткий взгляд, и в ее глазах я увидел тоску.
Я почувствовал, что мое детское существо помрачнело вместе с Аидой. Я подошел и обнял ее. Что это был за дурацкий жест – задернуть штору перед ее носом? Сколько неуважения было в нем, сколько презренной пустой уверенности в своей презренной пустой правоте, сколько упоения своей властью… Откуда это во мне? Кто научил меня этому? Чей подлый голос внутри меня и сейчас убеждал, что задернуть перед ее носом штору было правильно?
Аида
Да, если уж уделять зачем-то внимание таким мелочам… Мне, наверное, действительно стало немного неприятно, когда папа задернул штору перед моим носом. Но вообще-то, я в тот момент не заметила неприятного чувства. А потом быстро забыла. Это же родители, что с них возьмешь?
Возможно, у папы было просто плохое настроение. Например, из-за этого дурацкого дыма, который помешал его работе. Папа же не хотел меня обидеть? Дернул же черт играть с этой заслонкой! Зачем я вообще прикоснулась к ней? Я ведь никогда раньше не делала этого и ничего в камине не понимаю. Когда я была маленькой, мама однажды неловко шевельнула заслонку, и всю комнату заволокло дымом – все забегали, вот смеху-то было!
Днем я сходила на урок музыки. Несмотря на то что опоздала, учительница приняла меня – я объяснила, что в доме чуть было не случился пожар, и это очень ее впечатлило. А вечером мы с мамой раскраивали ткань на кухонном столе.
– Подай сюда ножницы, – попросила мама.
– Мам, я могу до брака начать отношения с мужчиной? – спросила я, выполняя просьбу.
Рано или поздно пришлось бы задать подобный вопрос, а сегодня была самая подходящая минута: этот парень почему-то оставил такое радостное чувство! У него была такая хорошая улыбка… И он так мужественно и бесстрашно вернул на место страшную, черную от сажи каминную заслонку!.. И мы с ним весело смеялись, старыми газетами прогоняя дым через окно гостиной… И он много интересного рассказал про человеческие сухожилия… Как тускло я жила! Как вообще люди могут влачить годы, ничего не зная про свои сухожилия?
Одним словом, после всех этих головокружительных переживаний вокруг пожара и сухожилий откладывать вопрос о возможности добрачных отношений с мужчиной было нельзя ни на минуту.
Я смотрела на маму, ожидая ответа, но она продолжала шить, как будто никакого вопроса не прозвучало вовсе. Наконец она бросила на меня взгляд и тихо сказала:
– И вон те нитки.
Я подала ей нитки.
– Что значит начать отношения? – наконец спросила мама.
– Ничего, – сказала я.
– Совсем ничего?
«Господи, какая же она нудная!»
– Ну, гуляния… поцелуи… – сказала я.
– И все? – удивилась мама.
– Разумеется, все! – возмутилась я. – Как ты могла подумать?
– Не надо так картинно удивляться, – сказала мама. – Ты уже не в молочном возрасте.
Она продолжила шить. Молчание тянулось и тянулось – это, наверное, было маминой тактикой – ждать, что вопрос сам собой как-нибудь снимется. Например, я скажу: «Ну ладно, мамуля, я пошла спать». А мама, уткнувшись в нитки, скажет: «Да-да, спокойной ночи, доченька». Я поцелую ее и уйду в спальню, а утром проснусь, и никакого дурацкого вопроса у меня в голове уже не будет.
Я смотрела на маму. Она подняла на меня удивленный взгляд – оказывается, я еще здесь и почему-то продолжаю ждать ее ответа.
– Если не узнает бабушка, то можно… – сказала мама, уткнувшись в шитье.
От этого коротенького «можно» у меня просто захватило дух и заколотилось сердце. И стало страшно.
– А лучше, если и папа не узнает, – добавила мама.
– Почему? – спросила я.
– Ну хотя бы потому, что это его пациент.
«Откуда она все знает?»
– Мам, но я же не сказала, о ком идет речь.
– Он тебе нравится?
Я почувствовала теплоту и доброжелательный интерес, подошла и обняла маму. Она улыбнулась.
– Ни у кого нет такой прекрасной мамочки, как у меня… – сказала я.
– Просто твоя мамочка прекрасно помнит, как в твоем возрасте сама убежала от родителей с одним мальчиком… – чуть помолчав, она поспешила добавить: – Не советую брать с меня пример.
– Это, конечно же, был наш папа? – спросила я.
– Нет, – сказала мама, продолжив шитье. – Это было за три мальчика до нашего папы.
Ответ мне понравился. Он лишний раз доказывал, что родители, как ни странно, тоже люди. И еще он доказывал, что даже взрослые иногда говорят правду.
* * *
В окно светила луна. В ночной рубашке я осторожно вышла из своей комнаты. Дверь в этот раз даже не скрипнула – с ее стороны очень мило. В коридоре темно. Проходя мимо приоткрытой двери в спальню родителей, я старалась быть максимально бесшумной, и у меня это получилось.
Большинство карточек в картотеке пациентов были старыми, пожелтевшими, а новых – белых, жестких, с еще не истрепанными углами – оказалось очень мало. Я с самого начала смотрела только на новые, поэтому разыскать карточку Рихарда оказалось совсем не сложно. Быстро переписала его адрес, а прочесть еще что-нибудь просто не успела – карточка вдруг выскочила из рук и улетела высоко в воздух: я даже не успела понять, почему мои руки дернулись как от электрического тока. А причиной оказался всего лишь нежный, тихий, любящий материнский голос – вот какой волшебной силой он обладает, когда его совсем не ждешь.
– Ты же не пойдешь туда? – тихо спросила мама.
Она стояла в ночной рубашке в дверях папиного кабинета.
– Куда? – спросила я.
Карточка, описав в воздухе плавную дугу, ударилась о шкаф и подло приземлилась прямо в руки того, кого считала здесь главным. Мама бросила взгляд на адрес, показала карточку мне, и это стало ответом на мой вопрос «куда». Я отрицательно покачала головой – нет, разумеется, я туда не пойду, как можно было предположить такое?
– Тогда зачем? – спросила мама.
Я молчала – просто не придумала, что ответить. Мама подошла к картотеке и вставила карточку на место.
– Иди спать… – сказала она, погасила в кабинете свет и вышла.
Я осталась стоять в темноте. Мама не выгнала меня из кабинета, а оставила в одиночестве в полной свободе. Но обманывать ее доверие нельзя. Я вышла из кабинета вслед за ней.
Мамы в коридоре уже не было – наверное, она уже спала. Я вернулась в свою комнату, забралась в кровать, укрылась одеялом и стала смотреть в потолок. Я пыталась понять, что со мной происходит: никогда раньше не вставала среди ночи, не пробиралась в скучнейшее место в доме – папин кабинет – и не рылась в его скучнейших бумагах.
Эта попытка понять себя так и не привела ни к чему конкретному. Если не считать того, что у себя под одеялом я вдруг обнаружила Рихарда – он лежал рядом и смотрел на меня. Его тело было горячим. Я провела рукой по его волосам, а потом погладила плечо. Потом я решительно отодвинула своего старого медведя, с которым обычно обнималась во сне, и крепко обняла Рихарда. Только после этого я смогла уснуть. Медведь остался лежать в стороне – теперь не я, а он мучился бессонницей и размышлял о своей судьбе.
Доктор Циммерманн
Если бы в тот хмурый день в мой кабинет случайно заглянул кто-нибудь посторонний, он решил бы, что этот уверенный в себе господин и есть истинный хозяин кабинета. А напротив хозяина сжалось какое-то недоразумение – загнанное жизнью существо: это, должно быть, пациент, который пришел сюда, чтобы понять наконец, как ему жить, а все полученные указания старательно записать в свою убогую тетрадочку. Нового хозяина кабинета звали Ульрих, ему было не более пятидесяти. Взглянув на тетрадь, Ульрих недовольно поморщился:
– Уберите это, я не пациент.
Я сразу же послушно убрал тетрадь. Конечно, он не пациент. Особенно учитывая, что вся наша планета – это планета пациентов, и нет ни одного, кто не нуждался бы в психологической помощи.
– Я пришел к вам, потому что с моим сыном что-то не так… – сказал Ульрих и замолчал.
Пауза длилась, а я не мог догадаться – что же не так с его сыном? Хотя, судя по недовольному выражению его лица, я давно уже должен был догадаться. Чтобы воодушевить его продолжить рассказ, я осторожно спросил:
– Что же с ним не так?
Ульрих высокомерно усмехнулся. Весь его вид показывал, что мой вопрос бестактен и я спросил о чем-то недопустимом. Может, мне это всего лишь показалось, а на самом деле в его голове просто-напросто пронеслось пренеприятнейшее воспоминание сегодняшнего утра, когда он в раздражении выдернул из рук своего растерянного двадцатилетнего сына какую-то ужасную, неподобающую открытку.
– Не знаю, – сказал Ульрих. – Не знаю, что с ним не так. И не хочу знать. Вы лучше сами с этим разберитесь.
Я кивнул.
– За счет чего вы меняете людей? – вдруг подозрительно спросил Ульрих. Его взгляд сверлил меня, его голос был сух и отрывист, и мне показалось, что в глаза светит лампа, а я сижу на допросе в гестапо.
– Я? Меняю? Я бы не сказал, что я кого-то меняю… – пробормотал я. – Человек меняется сам, если…
– Не надо уходить от конкретного ответа, – перебил Ульрих. – Я знаю, что вы меняете людей. Как? Каким образом? За счет чего? Вы гипнотизируете?
– Я беседую… – подумав, сказал я.
– Что значит беседуете?
– Задаю вопросы.
– Слабовато, – сказал он.
Привычная в таких случаях волна бешенства сразу же перехватила мне горло и затруднила дыхание. И сразу же включилась столь же привычная и годами натренированная техника избавления от острой эмоции – она снабдила мое бешенство двумя крылышками и позволила ему свободно и легко выпорхнуть через окно – даже несмотря на то, что окно было закрыто.
– Да, вопросы – это слабовато… – согласился я. – Особенно если не принимать во внимание, что это те вопросы, которые люди никогда не задают себе сами.
Ульрих молчал. Разговаривать с ним больше неинтересно – я ждал его сына. Сын появился минут через десять – он ждал в машине, а потом по сигналу отца, поданному через окно моего кабинета, поднялся в дом. Теперь в кресле для пациентов сидел Тео, а Ульрих ждал внизу у машины.
* * *
– У вас были когда-нибудь интимные отношения с мужчинами? – спросил я.
– Нет, – ответил Тео.
– Тогда почему ваш отец решил, что вас интересуют мужчины?
– Потому что это действительно так. Все мои фантазии крутятся вокруг этого… – сказал Тео, глядя в окно.
– Отец в курсе ваших фантазий?
– Нет, разумеется. Но, наверное, он что-то заметил, если привез меня сюда. Он сказал, что не потерпит.
Тео вдруг повернулся ко мне: его взволнованный взгляд был полон надежды.
– Вы мне поможете? – спросил он.
Я не знал, смогу ли ему помочь. Природа его влечения была мне неизвестна. А еще я не знал, какую именно помощь он имеет в виду. Не всегда пациент действительно хочет то, что декларирует.
– Вы хотите избавиться от этого? – спросил я.
– Конечно! – с жаром воскликнул Тео.
– Почему?
– Что за вопрос? Если об этом станет известно, будет вред отцовской карьере. Удар по его репутации. По всей семье. Неужели это не понятно?
Я кивнул. На самом деле мне ничего понятно не было. Ясно, что столь похвальная сыновняя забота о карьере отца и о нуждах семьи должна вызывать одно лишь восхищение. Впрочем, как раз этого восхищения я в себе совершенно не находил.
– Вы мне поможете? – спросил Тео.
– Вы хотите избавиться от этого? – спросил я снова.
– Вы ведь уже спрашивали об этом! – сказал Тео.
– Да.
– Вы разве не получили ответ?
– Получил.
Тео молчал. Я тоже молчал.
– Почему вы молчите? – спросил Тео.
– Я хочу знать, хотите ли вы избавиться от этого, – тихо сказал я.
Тео покраснел. Его руки задрожали от волнения. Когда он почувствовал на глазах слезы, то быстро встал и покинул кабинет.
Первое, что пришло мне в голову, – это интерес к мужчинам как подсознательная попытка Тео привлечь к себе внимание отца. Эту версию косвенно подтверждал факт странной неосторожности Тео, позволившей отцу обнаружить неподобающую открытку. Если бы Тео не хотел, чтобы отец что-то увидел, отец никогда бы ничего не увидел: никакая случайность не помешала бы Тео скрыть то, что он действительно хочет скрыть.
Я встал с кресла и выглянул в окно. Около машины мрачный Ульрих ожидал сына. Тео вышел из дома, нерешительно подошел к отцу. Ульрих спросил его о чем-то. Тео, пряча глаза, ответил. Ульрих посадил его в машину, в раздражении захлопнул за ним дверцу, сел за руль, и они уехали.
Рихард
То, что у мужчин-покойников член стоит торчком – это неправда, ничего у нас после смерти не торчит, можете мне поверить, потому что говорю я вам это не только как будущий покойник и не только как существо уже посмертное, но и как вполне живой девятнадцатилетний работник морга.
Философия этой легенды заключается, наверное, в драматической мужской мечте о том, чтобы даже умирающий мужской организм в последние секунды своей бесполезной жизни сохранил трогательную возможность еще раз бессмысленно продолжить род – например, при подходящем случае конвульсивно впрыснуть зазевавшейся самке последнюю порцию драгоценного генетического мусора.
Трудно, конечно, представить себе подобный уникальный случай. Тут ходишь живой, невообразимо красивый, до боли в животе готовый к любой счастливой случайности, но при этом почему-то абсолютно никому не нужный.
А вот якобы стоит тебе умереть, как со всех сторон, отталкивая друг друга, к тебе устремятся подразумеваемые природой самки: непонятно с чего охваченные безумной страстью к чему-нибудь полумертвому, они разорвут тебя на части, а победительнице достанется награда – девять месяцев изнурительной беременности, мучительные роды, а также почетное звание гордой продолжательницы человеческого рода на Земле.
Продолжательница будет объявлена почетной, потому что легенда, видимо, имеет в виду ситуацию, когда этот полупокойник остался последним мужчиной на планете, и впрыснуть жизнь в самку стало на нашей Земле больше некому.
Хорошо, допустим, что на планете почему-то остались одни самки, и поэтому деревенеющий прямо на глазах любовник резко взлетел в цене. Но тогда снова возникает вопрос: где были эти самки раньше?
Мой очередной мертвенно-синий любимец лежал голый на обшарпанной каталке в пустом зале морга. Я стоял рядом с усопшим и большой деревянной линейкой измерял его детородный орган. Следуя полученному от природы дару доброты и щедрости, я пытался улучшить его убогие показатели, но сантиметров получалось позорно мало.
– Не слишком… – пробормотал я. – Как ты жил с этой проблемой?
– Что ты делаешь? – вдруг послышался в гулком зале чей-то строгий мужской голос. Я бросил быстрый взгляд на покойника – его губы не шевелились. Я оглянулся.
Гюнтер. Он появился так неожиданно, что мне впору было выронить линейку и подпрыгнуть – подобно Аиде, среди ночи пойманной матерью за поисками моего адреса. А я ведь думал, что здесь совсем один. Откуда он взялся?
– Не видишь, что я делаю? – огрызнулся я. – Член ему измеряю.
– Зачем? – строго спросил Гюнтер.
– Исследую расовую статистику.
Линейкой, оскверненной прикосновением к мертвому синему члену, я с усмешкой указал на портрет фюрера, висевший на стене в неуместно пышной раме прямо над трупами.
Торжественность смерти, которой были исполнены холодные лица лежащих в ряд покойников, прекрасно рифмовалась с нордической торжественностью фюрера, устремившего психиатрический взгляд в далекое будущее великой Германии.
– Во-первых, я запрещаю тебе насмехаться над нашим фюрером, – сказал Гюнтер. – Хочу заметить, что ты позволяешь себе это не в первый раз.
– Прости, Гюнтер, – сказал я, изобразив искреннее раскаяние. – Я забыл о твоих святых чувствах.
– Предупреждаю – я напишу на тебя руководству больницы.
– Клянусь, больше не буду. Я ведь и сам понимаю, что фюрер велик… Хотя не настолько, чтобы не нуждаться в твоей защите.
– Запомни, негодяй: когда я умру, не смей подходить ко мне с этой гадкой линейкой, ты понял?
Мне на мгновение представилось, что Гюнтер уже умер, лежит голышом на каталке и вдруг в раздражении соскакивает с нее, злобно ломает деревянную линейку об колено и бросает в меня обломки.
– Не волнуйся, Гюнтер, – сказал я. – О твоих сантиметрах никто не узнает. Я буду свято хранить эту тайну – я всегда на стороне тех, кому есть о чем волноваться.
Гюнтер, красный и трясущийся от гнева, бросил в меня перчаткой, но я успел увернуться.
О проекте
О подписке
Другие проекты
