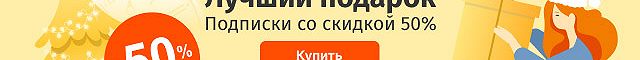
Эти люди, а вместе с ними и их истории, становятся, наверное, частью его самого – он ведь о них думает даже тогда, когда этих людей нет рядом. Он переживает за них и вспоминает их слова – разумеется, не из сочувствия, а всего лишь потому, что они наполняют его пустую жизнь хоть какими-то переживаниями.
А ко мне никакие хорошо одетые люди не приходят. Вместо них бесконечным потоком едет мертвая рыба – день за днем, месяц за месяцем, столетие за столетием. Просто обезглавить. Просто вспороть ей брюхо. Ни одна рыба пока еще не попросила, чтобы в сухой уютной обстановке я выслушал ее историю.
Впрочем, какая у рыбы может быть история? Такая же, как у всех остальных рыб: ужасно волнующая – о том, как плавала она в воде, увлеченная поиском своего червячка, а также, допустим, руководствуясь неотчуждаемым стремлением к счастью. Но тут всех вдруг накрыло какой-то непонятной сетью, и все сразу очутились здесь, на этой черной страшной ленте. И эта лента с грохотом и дрожью едет куда-то во мрак, из которого никто пока еще не вернулся живым… «Что я сделала не так? – спрашивает себя, наверное, рыба. – Как мне надо было жить, чтобы не попасться в эту сеть? Может, я неправильно плыла? Неправильным червячком увлеклась? К неправильному счастью стремилась?»
Странно здесь то, что люди день за днем раскидывают свои сети уже сотни лет, но для рыбы, оказавшейся в сети, это всегда почему-то неожиданность.
* * *
Сейчас эта бедная рыба, охваченная мучительными посмертными сомнениями в правильности выбранного ею червячка или правильности своего стремления к счастью, проплывает передо мной по ленте, и так длится день за днем и ночь за ночью.
После того как рыба мелькает перед моими глазами целый день, она и ночью меня не покидает – снится. Я просто чувствую, как она становится мной, а я становлюсь ею. Думаю, недалек тот день, когда я проснусь, почешу себе бок и в недоумении обнаружу там чешую, плавник и жабры.
Смысл этой рыбы, пока она едет по конвейеру, в том, чтобы ей отрезали голову и выпустили из нее кишки. Больше ни за чем она на этом конвейере не нужна. Пока я стою у конвейера, смысл этой рыбы становится и моим смыслом. Почему я до сих пор не вспорол себе живот и не отрезал себе голову?
Знаете, выпуская рыбе кишки, я не испытываю никакого омерзения – иначе я не смог бы здесь работать. Даже наоборот, каждое обезглавливание, каждое вспарывание живота дарит мне еле заметный импульс чего-то приятного. Если вы думаете, что я какой-то больной маньяк, получающий удовольствие от проникновения холодным ножом во влажную плоть еще живого минуту назад существа, вы ошибаетесь. Да, это малоприятный процесс. Но он дарит мне ощущение полезности миру. Я не могу без этого.
Возможность быть полезным дарится тем обстоятельством, что наш мир стыдливо и безостановочно нуждается в этой варварской дряни – в обезглавленной рыбе с выпущенными кишками.
Природа создала рыбу красивой. Такой она ко мне и поступает. Но такая рыба не нужна человечеству. Чтобы человечеству было хорошо, голову надо отрезать. И вот именно для этого у человечества есть я. Теперь вам понятна истинная цель, ради которой появилось на свет волшебное, уникальное чудо природы по имени Рихард Лендорф?
* * *
Рыба – это не только моя нужность миру. Это еще и общение. Посылая человечеству обезглавленную рыбу, я общаюсь с огромным количеством людей: например, с теми, кто будет есть ее за семейным столом. Или с теми, кто в каком-нибудь ресторане будет ее жарить.
Я незнаком с этими людьми и никогда их не увижу, но я чувствую их теплоту – я знаю, что эти люди есть, их много, я с ними связан через молчаливое рыбное взаимодействие, и таким образом мы вместе. А ведь это так прекрасно – не быть одному, а быть всем вместе!
Вот это я и скажу кому-то, кто когда-нибудь снова заплачет внутри меня от одиночества. Суну эту мертвую, скользкую, холодную рыбу ему в морду и скажу: кончай плакать, придурок! Радуйся, что ты не один!
* * *
Доктор Циммерманн как-то сказал мне, что задачей искусства является свидетельство прекрасного. А в данном случае вы и сами видите, что с прекрасным у этого человека проблема. С ногтями и волосами проблем у него нет, а вот с прекрасным – увы. Так что советую переключиться, пока не поздно, – например, на какую-нибудь сказочку о том, как добро побеждает зло. Добро в сказках всегда побеждает. А здесь оно не победит.
Этот призыв был сделан только для радостных. А те, кто в злобе и отчаянии, их я попрошу не бросать меня. Я не хочу плакать во мраке один, и вы не хотите. Зачем, если можно плакать вместе?
Теперь, когда я уже столетний посмертный дед, могу сказать с уверенностью, что люди делятся в первую очередь на радостных и безрадостных и только во вторую очередь на богатых и бедных, черных и белых, мужчин и женщин, больных и здоровых, молодых и старых.
Мы, безрадостные, всегда находим друг друга в толпе. А радостные нас не видят. Нас для них нет. Мы видим всех, а радостные – только себя. Мы никогда не поймем их, а они нас. Им действительно лучше держаться своей радостной компании, читать друг другу сказки о победе добра, а нас к себе не пускать.
Злу нравятся такие сказки. Его радует, что каждый имеет возможность пережить радость победы, даже не взяв в руки меч. Злу нравится, что в сказках оно выглядит таким победимым. Радует, что герои, бросившие вызов злу, выглядят такими смелыми, красивыми, а главное – живучими. Радует, что наше сознание инфицируется верой в неизбежную победу хорошего и волшебного над всем плохим и реальным.
Зачем нам реальность, если можно всю жизнь прожить в парах волшебного напитка? Забегая вперед, могу сказать, что доктор Циммерманн, например, прекрасно провел в этих парах все отпущенные ему годы, чем избавил себя и своих близких от многих и многих лишних хлопот, а заодно и от долгих лет жизни: все погибли.
* * *
Начальнику цеха сегодня повезло: я на мгновение замер перед лентой конвейера, после чего со всей дури вдруг вонзил нож в упругую плоть проезжавшей мимо рыбы. Я проткнул заодно и конвейер: нож вошел в ленту почти по рукоятку – вот какая сила в этот момент во мне оказалась. Конвейер остановился. В цеху включилась сирена. Работники стали растерянно переглядываться – еще бы, я посмел на несколько минут оставить их без смысла жизни.
Послышался недовольный мужской голос:
– Кто остановил конвейер?
Начальник цеха был убежден, что остановка конвейера – это плохо. Он просто не знал, что на самом деле это хорошо – ведь сегодня вечером он не помчится с веселым ветерком в морг, а пойдет домой, где увидит свою семью.
Я обнаружил, что стою в напряжении и мои губы плотно сжаты. Еще я обнаружил, что плачу. Подошел начальник цеха. Он удивленно посмотрел на мои слезы и без лишних слов отправил меня домой. Как это бесит, когда придурки, вызывающие злобу, оказываются милосердными.
* * *
Выйдя из цеха, я пошел по самой тихой улице из возможных – никакой суматохи, никаких трамваев. На подоконниках буйно росли цветы, откуда-то доносилась приятная музыка, а за столиком уличного кафе две милые старушки пили кофе и кормили птичек. Неподалеку от старушек элегантный мужчина цветами встречал женщину, пришедшую к нему на свидание. Ни одна из кофейных старушек не нарушала милую идиллическую картинку, захлебнувшись, к примеру, своим кофе и оттого упав, допустим, под стол замертво.
Вообще-то, я шел не домой. Я работаю еще в одном месте. Хотя из цеха отпустили сегодня раньше, все равно не было смысла делать крюк, чтобы появляться дома минут на сорок.
Мой путь лежал через парк больницы. На скамеечках грелись пациенты. У одного из них стекала со лба на глаз ярко-белая птичья какашка, но пациент не замечал этого: несколько минут назад, читая газету, он умер. Впрочем, этого никто пока не заметил. Я что, единственный, кто видит смерть?
Это странно, но я вижу ее везде – даже когда она еще спокойненько ходит среди живых, вполне по-дружески приглядываясь то к одному, то к другому. Это помогает мне в каждом живом заранее увидеть мертвого. В самом себе тоже – иногда я лежу на кровати, рассматриваю свои красивые руки и ноги и ясно и спокойно представляю их неизбежную будущую безжизненность.
На первой странице газеты, которую держал в руках сидевший на лавочке мертвый пациент, виднелся заголовок: «Фюрер с энтузиазмом приветствует…» Четкие крупные буквы и категорический черный цвет не оставляли никакого сомнения в столь благотворном для всей Германии энтузиазме фюрера.
О том, что именно воодушевило фюрера, я прочесть не успел – ветер перелистнул страницу, а потом, чуть подумав, вообще вырвал газету из рук покойника – понес ее куда-то вверх, в небо, а потом еще выше – зачем? Чтобы где-то в городе опустить ее в руки тех, кто еще изнывает в неведении относительно этой охренеть какой важной новости.
Я никогда не мог отделаться от сопоставления себя с фюрером. Почему его энтузиазм интересен всем? Почему о нем пишут газеты? Что мне надо сделать, чтобы мои чувства стали для всех так же важны, как чувства фюрера? Как мне стать фюрером? Как сделать так, чтобы любой полумертвый придурок с обосранным лбом до самой своей никому не нужной последней минуты судорожно сжимал в сухих ручонках эту драгоценную для него бумажку, которая казалась бы ему драгоценной всего лишь потому, что на ней написана какая-нибудь напыщенная галиматья о моих чувствах?
Впереди возвышалось старинное, красного кирпича, внушительное здание больницы – я шел туда. Там меня тоже никто не ждал. Впрочем, нет – меня там ждали. Если в цеху меня ждала мертвая рыба, то тут меня ждала целая сотня мертвых людей: я работал в морге.
Работы у меня всегда было много. Дело в том, что покойники – ужасно беспокойные существа: тихими и бесхлопотными они кажутся только на первый взгляд. На самом же деле они обожают свободу и беспорядок; они любят распространяться по коридорам и помещениям, всегда оказываясь не там, где надо. Они как дети в детском саду – всегда непослушны, все время в движении, не признают тихого часа и ни за что не соглашаются лежать ровными рядами.
Нет, в морге они совсем не такие, какими оказываются потом на кладбище. Здесь у них быстрые тележки на колесиках, а на кладбище у них нет ничего, кроме куска земли на строго указанной глубине. Там уже никакой свободы. Там им, видно, совсем уж тоска. Думаю, что каким-то образом они предчувствуют свое мрачное предстоящее, поэтому и пользуются минутой – резвятся как могут.
К примеру, если патологоанатом принялся вспарывать кому-то из них брюхо, он никогда не вернет свой препарат на место – никогда не отвезет туда, где взял. Это должен сделать я. Если под неумелыми руками какого-нибудь студента из анатомического театра кто-то из покойников неловко перевернется на бок, лицом вниз или упадет с тележки, поднимать его буду тоже я. Одного из покойников однажды утром обнаружили сидящим на унитазе. Как он там оказался? В туалет захотел? Сам дошел туда среди ночи? Ради чего он собрался с последними силами и бросил дерзновенный вызов смерти? Вспомнил, что не успел завершить в своей жизни что-то важное, без чего не найти человеческой душе окончательного успокоения? Решил привнести в этот мир еще немного того, что и так нес в него всю жизнь? Кстати, иногда покойники действительно оживают. Но, как правило, не для этого. А может, какие-то шутники над ним позабавились? Студенты, к примеру.
Возвращать покойника на положенное ему место буду не я один. Одному мне это не под силу. У меня есть напарник – Гюнтер. Гюнтер – моя личная тоска, заслуживающая отдельного абзаца. Разумеется, по свободной воле я Гюнтера никогда в друзья не выбрал бы – моя подлая жизнь навязала мне его.
Вне зависимости от того, что хотят видеть мои глаза, они всегда упираются в Гюнтера. Мало кто вызывает во мне такую смесь жгучей ненависти и презрения. Нисколько не приспособленный к жизни старый толстый недоделок, большой ребенок – несмотря на преклонный возраст. Всегда нелепо одетый, непрерывно источающий резкий тошнотворный запах – по любому поводу и даже без повода: от удивления, от негодования, от волны симпатии или антипатии, в день рождения фюрера или в день смерти Клары Цеткин – в любую минуту и в любой день недели к вашим услугам новая волна боевого отравляющего вещества с полей Первой мировой войны.
Я, конечно, понимаю, что такому толстому шестидесятилетнему ребенку трудно мыться – он не в каждую душевую поместится, да к тому же его маленькие ручонки просто не смогут дотянуться до дальних окраин тела – чтобы что-нибудь там, к примеру, намылить. Кстати, о намылить – интересно, как он дрочит? Ему же не дотянуться до нижней части своего глобуса. Или все-таки есть люди, которые не дрочат? Раньше его мыла и одевала мама. Да, представьте – этот дед жил с мамой до самой последней ее минуты. После смерти мамы уже некому было мыть беднягу, а также менять ему одежду. А умерла она, к вашему сведению, уже больше года назад. Так что можете себе представить, сколько сыновней скорби за этот год источило это трижды проклятое тело и какой экстрамноголетний коньяк из волшебной смеси его мочи и пота каждое утро бодрит меня в те дни недели, когда я прихожу сюда на работу.
Теперь, мне кажется, стало понятно, как мне вытравить этого Гюнтера из памяти. Я совсем не хочу, чтобы он пропитывал своей вонью те воспоминания, которые соседствуют с ним в моей голове: я мысленно расскажу о нем доктору Циммерманну. Я уверен, что этого будет достаточно – доктор всегда знает, что делать со всяким мусором, который во мне скопился.
* * *
Сегодня, еще даже не появившись в анатомическом зале, первым делом я отправился дрочить. Обычно я делаю это в больничном туалете, хотя, конечно, место это очень узкое: когда дверь открыта, она ударяется о раковину. Но мне больше места и не нужно. Гюнтер бы точно не поместился, но это не моя проблема.
Дрочить мне, вообще-то, в этот момент не требовалось. Просто, знаете, какая-то нервозность, взвинченность, непонятная тревога, и да – тоска от неизбежности предстоящего убогого четырехчасового общения с тупой земноводной рептилией по имени Гюнтер: все это требовало хоть какой-то компенсации прямо сейчас, какого-то срочного, безотлагательного телепортирования в другой мир, в другое измерение, где нет и не может быть никакого Гюнтера, и где сладкая, тихая и волшебная смерть на несколько мгновений заберет меня в страну исчезновения всех желаний, начисто остановит суетливое течение времени и хотя бы на мгновение соединит с черной тишиной вселенной.
Я запер обшарпанную дверь, привычно проверил ржавый крючок на крепость, закрыл глаза и сосредоточился на общении с вечностью. Но тут в дверь постучали.
– Рихард, ты здесь? – послышался высокий скрипучий голос Гюнтера.
Я замер. До начала рабочего дня оставалось еще минут десять. Как оказалась здесь эта земноводная дрянь? Он ведь даже не знал, что я уже в больнице! Я растерянно смотрел на дверь, пытаясь понять, что мне делать с предстоящей телепортацией – продолжать или попрощаться с надеждой?
Гюнтер стоял с той стороны двери и тяжело дышал. Он всегда так дышит. Несмотря на то что я его не видел, я был уверен, что он сейчас одет в широкие выцветшие штаны и полосатые подтяжки поверх клетчатой рубашки: без подтяжек с него все сваливалось. Эх, мама, мама, маленькая трогательная старушка, из которой шестьдесят лет назад вылезла эта тяжелая расползшаяся туша. Старушка, которая все последние десятилетия с готовностью и увлечением пыталась наполнить свою убогую жизнь единственным доступным смыслом – неустанной заботой о своем престарелом малыше. Если бы ты была жива, утром ты бы обязательно его помыла и переодела. И тогда я уже ни за что не взялся бы предугадывать, в чем сегодня появится на людях твой бедный драгоценный ребенок.
– Я знаю, что ты здесь, – нетерпеливо сказал Гюнтер. – Делай свои дела быстрее. Ты мне нужен. Быстрее!
– Не проблема, можно и быстрее, – тихо сказал я и спокойно возобновил прерванную телепортацию.
Громкое хриплое дыхание Гюнтера указывало, что он продолжает стоять за дверью.
– Чем ты там занимаешься? – бестактно спросил он.
– Отгадай! – зло крикнул я.
– Приходи в зал… – тихо сказал Гюнтер и удалился тяжелой шаркающей походкой.
В огромном зале больничного морга на каталке лежал труп старушки. Нагая, морщинистое сухое тело, длинные седые волосы. Я так и не узнал, как выглядела мама Гюнтера – меня не было в ту ночь, когда ее привезли; а похоронили ее очень быстро – в то же утро. Возможно, она выглядела как эта. Мне рассказывали, что в тот день Гюнтер сидел на полу, забившись в угол, и плакал – горько, как ребенок. И его отпустили домой – прямо как меня сегодня из рыбного цеха.
Интересно, если бы в тот день я был на работе, обнял бы я плачущего Гюнтера? Что победило бы во мне – сочувствие к бедняге или ненависть к его телу?
Вот такие дела, мама Гюнтера. Сначала ты удушаешь ребенка заботой, принимаешь за него решения, ограничиваешь его свободу, каждым своим шагом деятельно и энергично доказываешь ему, что без тебя он – ничто, и все это помогает тебе достичь цели – он не может без тебя обходиться. Он боится высунуть нос из вашего дома, боится мира, боится жизни, и вы десятки лет, к твоему удовольствию, живете вместе.
Он любит тебя и одновременно ненавидит. Любит за то, что ты продолжаешь заботиться о нем – продолжаешь принимать за него решения. А ненавидит – за то, что ты его тюрьма.
Ты тоже любишь своего сыночка: он ежедневно спасает тебя от одиночества. Именно спасение от одиночества и было твоей целью, когда ты запрещала ему развиваться. А ненавидишь ты его за несамостоятельность. И за его страхи. Ты отказываешься признать, что его страхи – это, вообще-то, твои страхи. Его несамостоятельность – это твоя несамостоятельность. Ты отказываешься увидеть в нем себя. Ты отказываешься признать, что вырастила себе зеркало. Из живого человека ты сделала кусок зеркального стекла. И теперь он для тебя такая же тюрьма, как ты для него: ты даже умереть теперь не имеешь права. Потому что – а как же он без тебя будет?
И вот, год за годом, две тюрьмы живут вместе. Каждая тюрьма служит тюрьмой для другой тюрьмы. Каждая тюрьма сидит в тюрьме другой тюрьмы. Их решетки сплелись и теперь настолько неотделимы, что уже невозможно понять, кто узник, а кто тюремщик. Они к этому привыкли, их несвобода им нравится, обоих это устраивает. Но приходит минута, и одна из тюрем умирает.
Умершая тюрьма больше неподвластна страху одиночества – она ведь умерла, и вместе с ней умерли все ее страхи. Поэтому вторая тюрьма теперь свободна. Но как это – быть свободной? Она не умеет, она не привыкла, ей страшно. И она сидит на полу, забившись в угол, и плачет – горько, как ребенок, у которого умерла мама.
Жаль, что мне открылось это понимание только после того, как доктор Циммерманн подарил мне свой взгляд на мир. А проросло оно во мне намного позже – только после того, как умер я. Если бы я оказался способен воспринять все это раньше, я, возможно, смог бы как-то помочь Гюнтеру, и тогда он не умер бы так скоропостижно – мало кто умирает скоропостижно, если ему хочется жить. Гюнтеру уж точно не хотелось.
Сейчас живой и тяжеловесный Гюнтер стоял рядом с этой сухой седой старушкой и с неудовольствием смотрел на меня. Его руки были уже в перчатках. Я поспешно шел по залу, надевая перчатки на ходу.
– Чего смотришь? – огрызнулся я. – Скоро и тебя сюда прикатят.
Вдвоем мы легко подняли старушку за руки и за ноги и переложили на стол.
– Над стариками смеяться некрасиво, – обиженно сказал Гюнтер. – Я продал себя ради науки.
– Ага, – сказал я. – А вовсе не ради денег и экономии на похоронах.
– Ты всегда злой, – сказал Гюнтер, вытирая пот. – Ты не устал так жить?
Стол обступили студенты в белых халатах. Перед ними стоял профессор со скальпелем в руке. Я оказался в гуще студентов и, раз уж так получилось, стал тянуть шею, пытаясь увидеть что-то впереди. Плечо высокого студента мешало мне, но я не мог попросить его отодвинуться – он заплатил за учебу, а я нет.
Гюнтер, заметив, что я не ухожу, задержался в дверях:
– Пойдем отдохнем, чего там смотреть?
– Ты что, голая старуха, самый шик, – сказал я.
О проекте
О подписке
Другие проекты
