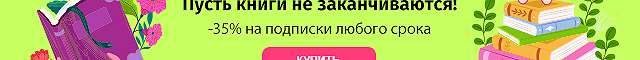
Эдит Уортон
Эпоха невинности
© Осенева Е., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Книга первая
Глава 1
Январским вечером начала семидесятых Кристина Нильссон [1] пела в нью-йоркской Академии музыки в опере «Фауст».
Хоть уже шли толки о возведении бог знает где, за Сороковыми улицами, нового здания Оперы, призванного затмить роскошью и дороговизной великие оперные театры европейских столиц, нью-йоркский бомонд по-прежнему с удовольствием коротал вечера зимнего сезона среди потертого ало-золотого убранства лож доброй и такой приветливой Академии. Люди консервативные ценили ее зал за малые размеры и неудобство, что оберегало его от нашествия «новых людей», чьи фигуры, все более заметные в жизни города, теперь не только привлекали, но и вызывали у ньюйоркцев своего рода оторопь; людей чувствительных и сентиментальных привязывали к залу воспоминания, его богатая история и отличная акустика – качества, обычно так трудно достижимые в музыкальных театрах.
Это было первым выступлением мадам Нильссон в зимнем сезоне, и те, кого ежедневная пресса привыкла именовать «весь цвет Нью-Йорка», собрались послушать ее, преодолев скользкие заснеженные мили пути в собственных экипажах – небольших одноконных либо вместительных семейных ландо, а кто и не столь помпезным, зато удобным образом «на «Браун-купе», в Брауновых наемных платных экипажах. Впрочем, приехать в Оперу «на Браун-купе» едва ли почиталось менее достойным, нежели прибыть туда в личном кабриолете, а уж уехать «на Браун-купе» давало прибегшему к такому способу передвижения (эдакой шутливой игре в демократизм) неоспоримое преимущество мгновенно влезть в первое же из стоявших в ряд общедоступных транспортных средств, не дожидаясь возле подъезда Академии явления там раскрасневшейся от холода и выпитого джина физиономии кучера. Безошибочная интуиция платных возчиков подсказала им догадку о том, что потребность американцев поскорее покинуть место увеселения превышает даже потребность на это увеселение попасть.
Ньюленд Арчер открыл дверь в глубине клубной ложи как раз в тот момент, когда поднявшийся занавес открывал глазам зрителей декорацию сцены в саду. Причины не приехать в театр пораньше у молодого человека, казалось бы, вовсе не было: отобедал он ровно в семь в обществе только матери и сестры, после чего помедлил еще, сидя с сигарой среди полированных книжных шкафов из черного орехового дерева и затейливых, увенчанных резным узором кресел в «готической библиотеке», единственной комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Однако ведь Нью-Йорк – это прежде всего и в первую очередь крупный центр культуры, а хорошо известно, что в крупных центрах культуры приезжать в Оперу вовремя «не принято». Нью-Йорку Ньюленда Арчера умение разбираться в том, что «принято» и что «не принято», представлялось крайне важным, владение подобным знанием играло роль некоего тотемного божества из тех, кои тысячи лет назад тяготели над нашими предками, верша их судьбы, правя ими и повергая души в трепет и благоговение.
Вторая причина неспешности действий Ньюленда коренилась в особенностях его характера. Он медлил, куря сигару, потому что, строго говоря, был дилетантом, а предвкушать удовольствие ему нередко доставляло радость более острую, нежели это удовольствие получать. Особенно это касалось удовольствий самого тонкого и изысканного свойства, какими и изобиловала жизнь Ньюленда. На этот раз удовольствие, которое он ожидал, виделось ему и вовсе несравненным, поэтому… словом, даже если б Ньюленд согласовывал время своего прибытия в Оперу с импресарио примадонны, он не мог бы войти в ложу более своевременно, чем в тот момент, когда мадам Нильссон пела: «Любит… не любит… ОН МЕНЯ ЛЮБИТ!», разбрасывая вокруг себя лепестки маргариток, которые падали на сцену, сопровождаемые звуками, чистыми, как роса.
Пела она, разумеется, не «меня любит», а «m’ama», так как согласно непререкаемому и неизменно действующему в музыкальном мире закону слова французских опер на немецкий сюжет для удобства англоязычной публики должны воспроизводиться шведскими певицами исключительно по-итальянски. Однако Ньюленду это казалось вполне естественным: еще одна условность, как и прочие условности, формирующие его быт, например, необходимость причесываться и делать пробор на голове, действуя двумя серебряными щетками с монограммой, выполненной в синей эмали, или же невозможность появиться в обществе без цветка (преимущественно гардении) в петлице. «M’ama… non m’ama», – пела примадонна. С последним победным возгласом подтвержденной любви она, прижав к губам растерзанную маргаритку, устремила взор широко открытых глаз к лицу многомудрого Фауста – Капуля [2], коротконогого и нарумяненного, обряженного в тесноватый дублет красного бархата и в берете с пером на голове, коварно, но тщетно пытавшегося выглядеть столь же чистым и искренним, как его бесхитростная жертва.
Прислонившись к задней стенке ложи, Ньюленд Арчер оторвал взгляд от сцены и оглядел ложи напротив. Непосредственно перед ним находилась ложа престарелой миссис Мэнсон Мингот, чья чудовищная тучность давно уже препятствовала ее выездам в Оперу, но чьи молодые родственники неукоснительно присутствовали на всех модных сборищах в качестве ее представителей. На этот раз первый ряд кресел там занимали ее невестка миссис Ловел Мингот и дочь, миссис Уэлланд, а чуть дальше, позади этих затянутых в парчу матрон, сидела юная девушка в белом, чьи глаза выражали восторг и полную поглощенность действием. Когда «M’ama» мадам Нильссон взвилось над притихшим залом (к сцене гадания на маргаритке разговоры в ложах всегда замолкали), щеки девушки вспыхнули жаркой волной, залившей их розовым до самого лба и корней белокурых кос и спустившейся к молодым округлостям груди под скромным вырезом, окаймленным тюлевой складкой с цветком гардении. Девушка опустила глаза к объемистому пучку ландышей у нее на коленях, и Ньюленд заметил, как руки ее в белых перчатках кончиками пальцев нежно поглаживают цветы. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он перевел взгляд на сцену.
На декорации не поскупились, и красоту их признавали даже те, кто, как и он, видели оперные спектакли в Париже и Вене. Авансцену до самой рампы покрывала изумрудно-зеленая материя. Средний план составляли симметричные, ограниченные дужками крокетных воротцев шерстистые холмики, изображавшие мох, а над ними высились кусты размером с апельсиновые деревья, но усеянные крупными цветками роз – алых и розовых. Из мха выглядывали огромные, больше роз, анютины глазки; они были похожи на цветастые перочистки, из тех, что дарят священникам их усердные прихожанки, а на розовых кустах там и сям мелькали маргаритки, по-видимому, привитые к розам – как дальнее предвестье чудесных достижений мистера Лютера Бербанка [3].
В центре этого волшебного сада мадам Нильссон в белом платье из тонкой шерсти и бледно-голубого атласа, со свисающим с голубого ее пояска ридикюлем и двумя длинными желтого цвета косами, симметрично расположенными по обе стороны муслиновой вставки, потупившись, внимала пылким признаниям мсье Капуля, изображая наивное непонимание истинных его намерений, совершенно очевидных и проявляемых как словесно, так и жестами, когда он недвусмысленно указывал на подслеповатое полуподвальное окошко чистенького кирпичного коттеджа, маячившего в правой кулисе.
«Милая! – мысленно воскликнул Ньюленд Арчер, вновь обратив взор на девушку с ландышами. – Она даже понятия не имеет, в чем там дело!» – Он глядел на сосредоточенное личико взглядом восхищенного собственника, в котором гордость своей мужской победой мешалась с нежным преклонением перед безмерной чистотой этого доверившегося ему создания. «Мы будем читать «Фауста» вместе… на итальянских озерах…» – думал он, мечтательно соединяя антураж уже предполагаемого им медового месяца с шедеврами литературной классики, который он, как мужчина, почтет за долг и честь преподать своей суженой. Еще несколько часов не прошло, как Мэй Уэлланд дала ему повод убедиться в том, что он ей «небезразличен» (кодовое обозначение, заменившее нью-йоркским девицам признание в любви), а его воображение уже неслось вскачь и, перепрыгивая стадии обручального кольца, поцелуя, сопровождающего клятву верности и марша из «Лоэнгрина», рисовало его и Мэй вместе на фоне каких-нибудь чарующих европейских пейзажей.
Меньше всего ему хотелось, чтобы в будущем новоявленная миссис Ньюленд выглядела наивной дурочкой. Он намеревался развить в ней (благодаря его таланту просветителя) социальное чутье и быстроту ума, позволяющие не ударить в грязь лицом, в сравнении даже с самыми известными из дам так называемого «молодого круга», иными словами, вращаясь в обществе, где обычай требует от женщин принимать дань мужского внимания, в то же время кокетливо его отвергая. Попытавшись проникнуть в самую глубь собственного тщеславия (что изредка ему почти удавалось), он вынужден был бы признать, что хотел бы видеть жену такой же светски-искушенной и жаждущей нравиться, как та замужняя дама, чьи прелести пленяли его на протяжении двух довольно сумбурных лет; впрочем, даже намека на некую моральную зыбкость, всегда грозившую нарушить размеренность существования его незадачливого кумира и однажды чуть было не спутавшую собственные его планы и замыслы на зимний период, для своей жены он исключал.
Думать над тем, каким образом создать, а после сохранять и поддерживать в нашем жестоком мире столь чудесное единство льда и пламени, он не удосуживался. Он довольствовался самой идеей, не анализируя ее, поскольку знал, что идею эту разделяют с ним сонмища безукоризненно причесанных джентльменов в белых жилетах и с бутоньерками в петлице. Тех, кто один за другим появлялись сейчас в клубной ложе, дружески приветствовали его и, направляя бинокли на собравшихся в театре дам, рожденных в лоне общества и им воспитанных, критически их оглядывали. Что касается проблем интеллектуальных или же всего, связанного с искусством, тут Ньюленд Арчер чувствовал свое превосходство над этими избранными представителями исконной нью-йоркской знати: он и читал, надо думать, побольше, и размышлял побольше, а уж повидал в мире и подавно больше, чем каждый второй из них. Взятые по отдельности, они явно уступали ему, но все вместе и были тем, что называлось «весь Нью-Йорк», и мужская солидарность заставляла его принимать их взгляды и моральные оценки. Он нюхом чувствовал, что поступать иначе, отстаивая свою самостоятельность, хлопотно, да и не совсем «в стиле».
«Вот так сюрприз!» – воскликнул Лоренс Лефертс, внезапно отводя бинокль от сцены. В Нью-Йорке Лефертс считался первейшим экспертом и докой по части стиля и приличий. Похоже, он посвятил этой хитрой и увлекательной области знания больше времени, нежели прочие. Но знания такого глубокого и всестороннего, такого свободного владения материалом исследования, какое демонстрировал он, одной лишь преданностью этой науке и прилежанием не добиться. Стоило только скользнуть взглядом по этой сухощавой, элегантной фигуре, увидеть ее всю – начиная с высокого, открытого, с залысинами, лба, красивого извива превосходных светлых усов и кончая длиннейшими ногами с лаковыми штиблетами, их завершающими, и всякому становилось ясно, что человеку, умеющему носить столь красивое платье так небрежно, а свой высокий рост с таким изяществом, чувство стиля и знание приличий даны от рождения. Как сказал однажды про Лефертса один из его почитателей: «Если уж кому доподлинно известно, в каких случаях черный галстук к смокингу носят, а в каких не носят, так только Ларри Лефертсу». И в битве бальных туфель против лакированных «оксфордов» суд Лефертса был непререкаем.
«Господи боже…» – произнес он, после чего молча передал свой бинокль старому Силлертону Джексону.
Ньюленд Арчер, проследив, куда устремлен взгляд Лефертса, с удивлением убедился, что чувства джентльмена всколыхнула вошедшая в ложу престарелой миссис Мингот новая персона. То была молодая, ростом чуть ниже Мэй Уэлланд, стройная женщина. Тугие завитки ее темно-русых волос прикрывали виски и были стянуты узкой полоской бриллиантовой диадемы – прическа, намекавшая на стиль а-ля Жозефина [4] то есть стиль ампир, что подтверждалось и покроем платья из синего бархата – эффектно перехваченное под самой грудью поясом, оно было украшено еще и крупной, старого фасона пряжкой на этом поясе. Дама, столь необычно одетая, казалось, совершенно не чувствуя обращенного на нее внимания, на секунду замешкалась, стоя посреди ложи и обсуждая с миссис Уэлланд возможность занять место впереди – в правом углу ложи, затем, улыбнувшись, отступила несколько вглубь и села так, чтобы не потревожить золовку миссис Уэлланд, миссис Ловел Мингот, сидевшую в углу противоположном.
Мистер Силлертон Джексон вернул бинокль Лоренсу Лефертсу, и взоры всех членов клуба инстинктивно обратились к старому джентльмену. Все замерли, ожидая его суждения, ибо мистер Джексон был таким же авторитетом по части родственных связей, коим являлся мистер Лефертс по части стиля и приличий. Мистеру Джексону были ведомы все хитросплетения нью-йоркских кланов и семейств; он мог не только пролить свет на такие важнейшие вопросы, как родство Минготов (через Торли) с южнокаролинскими Далласами или что связывает старшую ветвь филадельфийских Торли с Чиверсами из Олбани (которых ни в коем случае нельзя путать с Мэнсон-Чиверсами, что обитают на Юниверсити-плейс), но мог и перечислить бытующие в каждом семействе характерные свойства, как то: баснословная скупость младших Лефертсов (тех, что с Лонг-Айленда) или же губительная склонность Рашвортов заключать глупейшие браки, или безумие, поражающее каждое второе поколение олбанских Чиверсов, из-за чего их нью-йоркские кузины отказывались вступать в брак с представителями этого семейства – закономерность, не знавшая исключений, не считая всем известного случая с бедняжкой Медорой Мэнсон, печальная участь которой… впрочем, по матери она была из Рашвортов.
Вдобавок к этой непролазной чащобе родословных древ голова мистера Силлертона Джексона между впадин узких висков и под мягкой кровлей серебряной его шевелюры хранила реестр самых важных скандалов и тайн, все последние пятьдесят лет тихо тлевших или бурливших под внешне невозмутимой поверхностью нью-йоркского света. Так далеко простиралась его осведомленность и такой цепкой оставалась память, что он считался единственным, кто мог бы раскрыть всю подноготную банкира Джулиуса Бофорта или поведать, что сталось с красавцем Бобом Спайсером, отцом престарелой миссис Мэнсон Мингот, так таинственно исчезнувшим (с порядочной суммой доверенных ему денег) менее чем через год после женитьбы, но ровно в тот день, когда восхитительной красоты испанская танцовщица, которой рукоплескали толпы в старом здании Оперы на Бэттери, отплыла на Кубу. Но все эти тайны, как и масса других, были накрепко заперты в душе мистера Джексона, ибо распространять что-либо, узнанное в частном порядке, не позволял ему не только долг чести, особо остро им осознаваемый, но и полное понимание того, что репутация человека сдержанного и благовоспитанного дает ему дополнительные возможности узнавать все, что его интересует.
Таким образом, клубная ложа замерла в напряженном ожидании, пока мистер Силлертон Джексон возвращал бинокль Лоренсу Лефертсу. Прошло еще мгновение. Старик помолчал, потом тусклые, с поволокой глаза под набрякшими, в старческих жилках веками оглядели внимающих ему завсегдатаев клубной ложи, и, задумчиво крутанув ус, старик изрек только одну фразу: «Вот уж не думал, что Минготы отважатся на такое!»
На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Эпоха невинности», автора Эдита Уортона. Данная книга имеет возрастное ограничение 16+, относится к жанрам: «Зарубежная классика», «Литература 20 века». Произведение затрагивает такие темы, как «экранизации», «американская литература». Книга «Эпоха невинности» была написана в 1920 и издана в 2022 году. Приятного чтения!
О проекте
О подписке
Другие проекты



