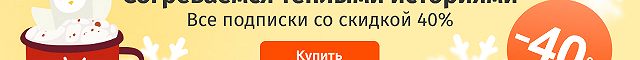
– Накануне, – продолжала она, – ко мне действительно явился дьявол. До этого я была невинна – ты ведь знаешь это, не так ли? И даже тогда мой грех был ради тебя, ради тебя, из-за безмерной любви, что я питала к тебе. Дьявол пришел, и я продала свою душу вечному пламени. Но я получила хорошую цену. Я получила право возвращаться через свою картину (если кто-то, глядя на нее, пожелает этого), пока моя картина остается в своей эбеновой раме. Эта рама не была вырезана рукой человека. Я получила право вернуться к тебе. О, сердце моего сердца, и еще одно я выиграла, о чем ты скоро услышишь. Они сожгли меня как ведьму, они заставили меня страдать ад на земле. Эти лица, толпящиеся вокруг, треск дров и запах дыма…
– О, любовь моя! Довольно, довольно!
– Когда моя мать в ту ночь сидела перед моей картиной, она плакала и взывала: «Вернись, мое бедное, потерянное дитя!» И я пришла к ней, и сердце мое радостно билось. Дорогой, она отшатнулась от меня, она бежала, она кричала и стонала о призраках. Она приказала накрыть наши портреты и снова поместить их в эбеновую раму. Она ведь обещала мне, что мой портрет всегда останется там. Ах, все эти годы твое лицо было прижато к моему.
Она умолкла.
– Но человек, которого ты любила?
– Ты вернулся домой. Моего портрета уже не было. Тебе солгали, и ты женился на другой женщине; но я знала, что однажды ты снова придешь в этот мир, и я тебя найду.
– А вторая награда? – спросил я.
– Вторую награду, – медленно произнесла она, – я получила, отдав свою душу. Вот она. Если ты тоже откажешься от надежды на рай, я смогу остаться женщиной, смогу жить в твоем мире – смогу быть твоей женой. О, мой дорогой, после всех этих лет, наконец-то, наконец-то!
– Если я пожертвую своей душой, – медленно проговорил я, не думая о всей нелепости подобных разговоров в наш «так называемый девятнадцатый век», – если я пожертвую своей душой, я обрету тебя? Но, любовь моя, это же противоречие в терминах. Ты и есть моя душа.
Ее глаза смотрели прямо в мои. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, что бы ни могло произойти, в тот миг наши две души встретились и стали единым целым.
– Значит, ты выбираешь, ты сознательно выбираешь отказаться от надежды на рай ради меня, как я отказалась от своей ради тебя?
– Я отказываюсь, – сказал я, – отказываться от своей надежды на рай на каких-либо условиях. Скажи, что я должен сделать, чтобы мы с тобой могли сотворить наш рай здесь, как сейчас, моя дорогая любовь.
– Я скажу тебе завтра, – ответила она. – Будь здесь один завтра ночью, в полночь – это ведь время призраков, не так ли? – и тогда я выйду из картины и никогда в нее не вернусь. Я буду жить с тобой, и умру, и буду похоронена, и на этом все закончится. Но сначала мы будем жить, сердце моего сердца.
Я положил голову ей на колени. Странная сонливость одолела меня. Прижав ее руку к щеке, я потерял сознание. Когда я очнулся, серый ноябрьский рассвет призрачно брезжил в незанавешенном окне. Моя голова покоилась на руке, которая лежала – я быстро поднял голову – ах! не на коленях моей дамы, а на вышитой подушке кресла с прямой спинкой. Я вскочил на ноги. Я озяб и был одурманен сном, но я повернул глаза к картине. Там сидела она, моя дама, моя дорогая любовь. Я протянул руки, но страстный крик, готовый сорваться с моих губ, замер. Она сказала – в двенадцать. Ее малейшее слово было для меня законом. Поэтому я лишь стоял перед картиной и смотрел в эти серо-зеленые глаза, пока слезы страстного счастья не наполнили мои собственные.
«О, моя дорогая, моя дорогая, как же мне прожить эти часы, пока я снова не обниму тебя?»
Никакой мысли о том, что свершение и венец всей моей жизни были сном.
Я, пошатываясь, поднялся в свою комнату, рухнул на кровать и заснул тяжелым сном без сновидений. Когда я проснулся, был полдень. К ланчу должны были приехать Милдред с матерью.
И тут я разом вспомнил и о приезде Милдред, и о самом ее существовании.
Вот теперь-то и начался сон.
С острым ощущением тщетности любых действий, не связанных с ней, я отдал необходимые распоряжения для приема гостей. Когда Милдред и ее мать приехали, я встретил их радушно, но все мои любезные фразы, казалось, произносил кто-то другой. Мой голос звучал как эхо; мое сердце было в другом месте.
Тем не менее, ситуация была терпимой до того часа, когда в гостиной подали послеполуденный чай. Милдред и ее мать поддерживали разговор, наперебой сыпля изысканными банальностями, и я терпел это, как можно терпеть легкое чистилище, когда рай уже виден. Я смотрел на свою возлюбленную в эбеновой раме и чувствовал, что все, что может случиться, любая безответственная глупость, любая бездна скуки – все это ничто, если после этого она снова придет ко мне.
И все же, когда Милдред тоже посмотрела на портрет и сказала: «Какая знатная дама! Одна из ваших пассий, мистер Девинь?», я ощутил тошнотворное чувство бессильного раздражения, которое переросло в настоящую пытку, когда Милдред – как я мог когда-либо восхищаться этой смазливостью в духе картинок с шоколадных коробок? – бросилась в кресло с высокой спинкой, скрыв вышивку своими нелепыми оборками, и добавила: «Молчание – знак согласия! Кто это, мистер Девинь? Расскажите нам все о ней: я уверена, у нее есть своя история».
Бедная маленькая Милдред, сидевшая там, улыбаясь, безмятежная в своей уверенности, что каждое ее слово очаровывает меня – сидевшая там со своей несколько перетянутой талией, несколько тесными ботинками, несколько вульгарным голосом – сидевшая в кресле, где сидела моя дорогая дама, когда рассказывала мне свою историю! Я не мог этого вынести.
– Не сидите там, – сказал я, – оно неудобное!
Но девушка не вняла предупреждению. Смехом, от которого каждый нерв в моем теле завибрировал от раздражения, она сказала: «О, боже! Мне что, даже в том же кресле нельзя сидеть, что и вашей женщине в черном бархате?»
Я посмотрел на кресло на картине. Оно было тем же самым; и в ее кресле сидела Милдред. Тогда меня охватило ужасное чувство реальности Милдред. Неужели все это было реальностью? Неужели при удачном стечении обстоятельств Милдред могла бы занять не только ее кресло, но и ее место в моей жизни? Я встал.
– Надеюсь, вы не сочтете меня очень грубым, – сказал я, – но я вынужден уйти.
Не помню, на какую встречу я сослался. Ложь пришла на язык сама собой.
Я выдержал надутые губки Милдред с надеждой, что она и ее мать не станут ждать меня к ужину. Я сбежал. Через минуту я был в безопасности, один, под холодным, облачным осенним небом – вольный думать, думать, думать о моей дорогой даме.
Я часами бродил по улицам и площадям; я снова и снова переживал каждый взгляд, каждое слово, каждое прикосновение руки, каждый поцелуй; я был совершенно, невыразимо счастлив.
Милдред была полностью забыта: моя дама из эбеновой рамы наполнила мое сердце, душу и дух.
Услышав, как одиннадцать ударов пронеслись сквозь туман, я повернул и пошел домой.
Когда я добрался до своей улицы, я увидел толпу, бурлящую на ней, и сильный красный свет, заливающий воздух.
Горел дом. Мой.
Я протолкнулся сквозь толпу.
Картина моей дамы – по крайней мере, ее я мог спасти!
Взбегая по ступеням, я увидел, как во сне – да, все это было поистине похоже на сон, – я увидел Милдред, высунувшуюся из окна первого этажа и ломающую руки.
– Назад, сэр, – крикнул пожарный, – мы вытащим эту юную леди, будьте покойны.
Но моя дама? Я продолжал подниматься по лестнице – трещащей, дымящейся и горячей, как ад, – в комнату, где была ее картина. Странно сказать, я думал о картине лишь как о вещи, на которую мы будем с удовольствием смотреть в течение долгой и счастливой супружеской жизни, что нас ждала. Я никогда не думал о ней как о чем-то едином с ней.
Добравшись до первого этажа, я почувствовал, как чьи-то руки обвились вокруг моей шеи. Дым был слишком густым, чтобы я мог различить черты лица.
– Спасите меня! – прошептал голос. Я обхватил фигуру руками и, с каким-то странным неудобством, снес ее по шатающейся лестнице вниз, в безопасность. Это была Милдред. Я понял это, как только обнял ее.
– Назад! – кричала толпа.
– Все в безопасности! – крикнул пожарный.
Пламя вырывалось из каждого окна. Небо становилось все краснее и краснее. Я вырвался из рук, которые пытались меня удержать. Я взлетел по ступеням. Я пополз вверх по лестнице. Внезапно весь ужас ситуации обрушился на меня. «Пока моя картина остается в эбеновой раме». Что, если картина и рама погибнут вместе?
Я боролся с огнем и с собственным удушающим бессилием бороться с ним. Я продвигался вперед. Я должен был спасти свою картину. Я добрался до гостиной.
Ворвавшись в комнату, я увидел мою даму – клянусь, я видел – сквозь дым и пламя, протягивающую мне руки – мне, пришедшему слишком поздно, чтобы спасти ее и спасти радость всей моей жизни. Больше я ее никогда не видел.
Прежде чем я успел добежать до нее или крикнуть ей, я почувствовал, как пол поддался под ногами, и я провалился в огненный ад внизу.
Как они меня спасли? Какое это имеет значение? Они спасли меня как-то – будь они прокляты. Вся мебель моей тетушки была уничтожена. Друзья указывали, что, поскольку мебель была хорошо застрахована, неосторожность горничной, засидевшейся за книгой ночью, не причинила мне вреда.
Никакого вреда!
Вот так я обрел и потерял свою единственную любовь.
Я отрицаю, всей душой отрицаю, что это был сон. Таких снов не бывает. Снов, полных тоски и боли, предостаточно, но снов о полном, невыразимом счастье – ах, нет, это вся остальная жизнь – сон.
Но если я так думаю, почему же я тогда женился на Милдред, растолстел, поскучнел и преуспел?
Говорю вам, все это – сон; моя дорогая дама – единственная реальность. А какая разница, что ты делаешь во сне?
О проекте
О подписке
Другие проекты
