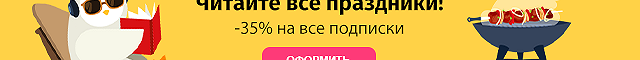
В статье о войне из-за Фолклендских островов Фаулз осуждает британские СМИ за то, что они превратили партийную политику в публичное развлечение весьма низкого пошиба, и сожалеет о безответственном использовании языка ради достижения партийно-политических целей. «Самое важное, чему учит нас [писателей] наша профессия (в этом мы сходны с политиками), это сознавать пугающую способность образа и слова вызывать к жизни нечто глубоко захороненное и заглушать голос трезвого разума», – пишет он. И правда, история предоставляет нам вполне достаточно свидетельств такой власти слова и образа и тех ужасов, которые они могут за собою повлечь. Но затем мы видим, что автор резко отворачивается от высказанного им сравнения, возможно, как раз из-за воспоминаний о тех самых исторических свидетельствах, не желая уж слишком уподобляться политикам: «Дурное, потворствующее дурным желаниям искусство наносит вред немногим; дурная, потворствующая дурным желаниям политика вредит миллионам людей». Не многие стали бы возражать против последней части этого утверждения, но что касается первой, то я, например, не верю, что дурное искусство безобидно, как не верю и в то, что хорошее искусство бессильно. Искусство Фаулза – искусство идейное; оно не является нейтральным ни морально, ни политически. «Долг искусства, – утверждает он в статье «Вспоминая о Кафке», – пытаться изменить к лучшему все общество в целом». Этот взгляд подтверждается и в его интервью с Дианн Випон. Писатели, говорит он, унаследовали морально-этическую функцию от средневековых священнослужителей, для которых литература тоже являлась полем действия. Подобно Д. Г. Лоуренсу, которым он так восхищается (несмотря на все мои усилия – в качестве правоверной феминистки – его разубедить!), Фаулз откровенно признает, что дидактичен. Лоуренс считал, что цель романа – учить; именно поэтому Ф. Р. Ливис его канонизировал[29], возведя в ранг представителя «великой традиции». Стоит задуматься: а сделал бы Ливне то же самое в отношении Фаулза? Разумеется, Фаулз, как и Лоуренс, пишет, чтобы быть услышанным; когда он пишет о Лоуренсе, он неустанно, как истинный проповедник, пытается спасти нас и заламывает руки в отчаянии от нашего совершенно явного коллективного нежелания быть спасенными.
Писатели, которые, как мне представляется, более всего говорят Фаулзу, с кем он более всего чувствует себя связанным, – те, что по той или иной причине разделяют его чувство изгнанничества, чувство, что он – человек в какой-то мере посторонний или, по его собственным словам, «сварливый затворник, отшельник». Собирая работы для третьего раздела этого тома, я была совершенно потрясена количеством свидетельств пристрастия Джона к литературным «изгоям», историческим эксцентрикам, раскольникам того или иного толка, как из-за содержания их книг, так и из-за личности каждого из этих авторов.
Так же как для Эбенезера Ле Пажа, героя и литературного alter ego Дж. Б. Эдвардса[30], для Фаулза характерна «раздражительность по отношению к новому» и чувство исключенности из современного общества. Для Фаулза это – неприятие постиндустриального общества виртуальной реальности и информационных технологий; для самого Эдвардса это было нечто вроде «постоянной супротивности, несговорчивости» – типичных черт пожизненного диссидента, с которым явно отождествляет себя Фаулз. Мир Эбенезера Ле Пажа – «Остров в Английском канале»[31] – становится для Фаулза метафорой, обозначившей «остров собственного «я», яростно сопротивляющийся всем и всякому, кто попытался бы его захватить или подчинить своему господству.
Джон Обри[32], более всего известный своими «Краткими биографиями», – еще один одинокий чудак, антиквар[33], борец за сохранение исторических памятников, такая же белая ворона, противник всего ортодоксального. А с современником Уильямом Голдингом Фаулза тоже, по-видимому, объединяет чувство некоего интеллектуального изгнанничества, исключенности из общества. «Идеи, – цитирует Джон другого писателя в одном из ранних эссе, – вот единственная родина»[34]. Отождествление себя с героями статей не ограничивается лишь героями мужского пола. Энн Ли, персонаж самого позднего романа Фаулза «Мэггот»[35] и реальная основательница секты трясунов, принадлежала к самым известным раскольникам XVIII века и, хотя не упомянута в этом сборнике, долгое время была одной из героинь Джона. Еще одна его героиня, в отличие от Энн Ли упомянутая в этом томе, – Мария Французская, автор книги «Ле», поэтесса XII века, о жизни которой мы знаем очень мало, но чье творчество говорит нам, что она была высокообразованной женщиной, пользовавшейся успехом, очень мудрой и много грешившей. Почти наверняка и она, вопреки ее уверениям в лояльности, тоже была интеллектуальным изгоем.
Ален-Фурнье, писатель, к которому Фаулз чувствует себя «значительно ближе», чем к любому другому ныне живущему или умершему автору, совершенно очевидно, был таким же, как и Джон, нимфолептом – человеком зачарованным, тоскующим о недостижимом. Влияние его единственного романа «Большой Мольн» (часто непочтительно называемого «Большой Стон»[36] некоторыми, не столь восхищенными, как сам Джон, его друзьями) на жизнь и творчество Фаулза было весьма полно и доказательно описано и документировано критиками и учеными, как, впрочем, и самим Джоном, и введение – не место для еще одного литературоведческого анализа. Но все же кое-что следует здесь сказать, поскольку центральная тема романа – понятие утраченного домена – и составляет то, что, как я полагаю, можно назвать мифом всей жизни Джона. В нем говорится о чем-то уже навсегда утраченном: о мифическом Эдемском саде, о золотом веке детской чистоты и невинности или, в терминах психоанализа, как предполагает Гилберт Роуз (о чем говорится в многое разъясняющем автобиографическом эссе Фаулза «Гарди и старая ведьма»), об идеализированном образе матери раннего детства. В этом же эссе Фаулз утверждает всеобщность такого состояния. «Всеобщее состояние человечества – состояние утраты», – пишет он. Кроме того, в пересмотренном предисловии к «Волхву» он говорит еще и об особой важности подобного состояния для писателя: «Чувство утраты весьма существенно для романиста и замечательно плодотворно для его творений, какую бы душевную боль ни причиняло оно ему самому».
Фаулз не единственный писатель, пришедший к такому заключению. Так, например, Гюнтер Грасс[37] пишет подобное же о собственном чувстве изгнанничества и утраты: «Язык не мог компенсировать мне утрату, но, нанизывая одно за другим слова, я сумел хотя бы создать что-то такое, что помогло мне громко заявить о своей утрате… Чувство утраты дало мне голос. Только то, что безвозвратно утеряно, требует, чтобы его непрестанно называли по имени: маниакально веришь, что, если все время звать утраченное, оно обязательно вернется. Без утрат не было бы литературы»[38].
Итак, потерянный Рай. Однако Рай время от времени возвращается – в зеленых укрытиях-убежищах, в священных долинах и bons vaux[39], которые так важны и значительны в произведениях Фаулза и в его жизни. Герой Фурнье был совсем юным, когда обрел в сельской Франции свой утраченный домен, в том же возрасте, в каком был Джон, когда перенес «нервный срыв», как это тогда называлось, и переселился в Девон, где обрел свой личный Эдемский сад в общении с природой, флорой и фауной Девона, с девонскими пейзажами. Это общение всю жизнь поддерживает Джона, помогает ему, как об этом свидетельствуют его дневники. Оно, несомненно, как-то смягчает, уравновешивает чувство утраты: дает утешение, укрытие, чувство эволюционной целостности. В романах это происходит именно в той точке, где сливаются два элемента – обостренное чувство утраты и обретение успокаивающего зеленого убежища: мы обретаем утраченный домен. В жизни – это его связь не только с живой природой, но и с культивируемой частью его сада: его интимный, «собственноручный» опыт общения с природой – первый в этом году подснежник, встреча с редкой птицей или насекомым, визит к новоотысканной колонии орхидей… Все это, несомненно, и есть живой источник, дающий писателю жизненные и творческие силы.
И словно таинственный дух, в утраченном домене, разумеется, непременно обитает princesse lointaine, архетипически недосягаемая женщина, чей образ усиливает – в чем он сам и признается – нимфолепсия Джона, извращенное, но непреодолимое стремление к недостижимому, которое у Фаулза оказывается парадоксально плодотворным.
Получается, что упомянутые писатели и их персонажи обычно отражают причуды и проблемы, заботящие самого Фаулза, его навязчивые идеи. Герой двух из публикуемых здесь очерков – Томас Гарди – представляет, пожалуй, особый случай. Здесь мы снова видим отождествление с собратом по самоизгнанию, снова узнавание чувства утраты и его следствия – творческого плодородия. О попытках Гарди отрезать себя от собственного прошлого Фаулз пишет, что «глубочайшее чувство утраты, какое порождает такая самоизоляция, чувство вины, осознание тщеты человеческого существования невероятно ценны для писателя, поскольку являются также источником творческой энергии». Но Гарди – литературный колосс, чья тень (как в метафорическом, так и в юнгианском смысле[40]) неизбывно нависает над писателем, литературный ментор, непогрешимый авторитет, по словам Фаулза, так же, как и он сам, считавший литературные занятия «онанистическим и греховным делом». Снова запретные наслаждения. И действительно, Фаулз предваряет эссе «Гарди и старая ведьма» стихотворением Гарди, являющим собою метафорический стриптиз, где юная богиня, познанная и доставившая такое наслаждение ночью, с рассветом дня оборачивается отвратительной, порочной старой ведьмой[41]; вызывая тревогу, стихотворение говорит о страхе, который сильнее наслаждения. Если удовлетворение желания оказывается (как и должно быть, хотя бы на время) смертью желания и если смерть эта воспринимается, как можно прочесть у Гарди, как постыдный и грязный разврат, то нимфолепсия – отказ от достижимого (из потребности «избежать консуммации»[42]) ради недосягаемого объекта желания, которым можно любоваться, но нельзя плотски обладать, – и есть психологически единственно возможное решение. Эссе Фаулза о романе Гарди «Любимая», возможно, открывает нам о нем самом не меньше, чем о его герое; и если такие «общие трудности», как говорит нам автор, причиняют боль и создают проблемы в жизни повседневной, то для обоих писателей они оказываются необычайно существенным и необходимым фактором в жизни воображаемой и творческой.
Самый сокровенный интерес Фаулза – его непреходящая любовь (даже страсть) к естественной истории и (как говорит название последней статьи этого сборника) к природе природы. В последние годы эту страсть мощно питает гнев, о чем свидетельствует последняя группа статей. Гнев этот порожден яростью и отчаянием страстного поборника охраны природы, на глазах у которого оскверняется и губится то, что ему так дорого, и направлен против тех, кто «намеренно убивает природу и губит природные ландшафты по всей земле».
В статье «Земля» Фаулз поднимает наиболее сложный из вопросов о природе и ее изображении, говоря о своих сомнениях в отношении фотографирования пейзажей. Он сам, по его словам, ищет «глубоко личного, прямого, непосредственного восприятия пейзажа», той интимной связи, что порождает творческий импульс художника и возрождает человека. Гнев его вызывают и те, кто сентиментально и ностальгически распространяется лишь о красоте английских деревень, полей и лесов: это пережиток декадентского романтизма. Фаулз, подобно Гарди, подобно поэту Джону Клэру[43], тоже певцу природы, которым сам он так восхищается, никогда не забывает, что «в сельской жизни может быть место непристойности, глупости и жестокости». Так что хоть он и лелеет мысль о священной долине, о bons vaux, но всегда стоит за то, чтобы честно признавать существование часто весьма неприглядных сторон сельской жизни и сельскохозяйственной деятельности. Он считает, что его собственный практический опыт фермерского труда в 40-е годы, впрочем, гораздо более поэтический, чем практический, глубоко повлиял на всю его дальнейшую жизнь, и Джон страшно горд тем, что написал первую главу романа «Дэниел Мартин» в честь тогдашней его близости к сельской жизни. Природа, утверждает он, прежде и более всего требует к себе уважения, а не сентиментальности, не ностальгии, не романтического изображения. Когда гнев стихает, писания Фаулза о природе приобретают элегический тон; это грусть об уже утраченном, мольба о сохранении в живых оставшегося. Читать эти работы – что «слушать жалобы неутешной химеры», как говорится в «Четырех квартетах» Элиота: ведь голос, что говорит с нами, звучит словно глас вопиющего в пустыне.
Другая неотступная идея Фаулза – «гибельная извращенность коллекционера» – еще одна из тем, наполняющих и формирующих его творчество. Клегг, отталкивающий герой романа «Коллекционер», представляет собою архетип всех коллекционеров живой природы, кто в «конечном счете коллекционирует лишь одно: смерть всего живого», – это главное утверждение, характеризующее отношение Фаулза к природе и природному миру.
Не однажды в собранных здесь работах Фаулз сокрушенно вспоминает о своих собственных попытках коллекционирования и признается, что поначалу он знакомился с жизнью природы, «охотясь на нее с ружьем и удочкой». Став старше, он не только бросил оба этих занятия, но научился презирать большую часть «коллекционерской деятельности – собирание, накапливание, откладывание про запас… какую бы научную пользу, с точки зрения этих людей, такая деятельность ни приносила», поскольку она «пробуждает в человеке все самое худшее». Здесь употребление мужского рода – сознательное и добровольное. (Употребление мужского рода представляло значительные трудности для меня как редактора; повсюду, где редакторская правка не меняла смысла и не нарушала изящества фаулзовской прозы, например когда речь шла о человеке (мужчине) как представителе рода человеческого, я изменяла гендерную специфику языка[44] на более приемлемую с точки зрения политической корректности.) Постоянно (практически всю жизнь) критикуя отвратительный – чисто мужской – обычай коллекционировать, Фаулз сознательно освобождает от обвинения женщин. Женщины для Фаулза – естественные, по натуре своей поборницы охраны природы. Именно мужчина, этакий «злостный хищник-паразит», представляет алчную, виновную часть человечества. Пожалуй, вовсе не удивительно, что так получается. В конце концов, природа всегда отождествляется с женщиной (правда, многие феминистки могут с этим не согласиться), и, раз это так, «мужчине», вероятно, и должно быть свойственно обращаться с природой как ему по традиции свойственно обращаться с женщиной – существом лишь наполовину разумным, непредсказуемым, которое следует приручать, подчинять своему господству, эксплуатировать и время от времени ублажать; в отличие от этого сочувствие «женщин» их сестре-природе поможет им всегда и повсюду уподобляться ангелам – с точки зрения экологов, разумеется.
Может, Фаулз и правда натуристорик, но то, что он проповедует и защищает в последней статье этого сборника, оказывается скорее поэтическим, как у Китса или Маккейга, а не научным, линнеевским отношением к природе[45]. Единственно простительным видом коллекционирования Фаулз (возможно) считает библиофильство, но даже и в этом некий пуританизм не позволяет ему покупать первые издания или дорогостоящие редкие книги. Во всяком случае, здесь охотничий азарт поиска и восторг обретения вполне допустимы.
Но я уже достаточно порассказала о нечестивых наслаждениях. Пора теперь и читателю испытать наслаждение – наслаждение текстом. Возможно, собранные здесь работы и преследуют дидактические цели, возможно, они вызовут споры, возможно, некоторые из них имеют сугубо «одноразовую» ценность, но все они в высшей степени интересны, живы, разнообразны и великолепно, мастерски выполнены. За то, что я, словно коллекционер, собрала здесь эти работы, я не приношу извинений, поскольку эту коллекцию не собираюсь хранить для себя, но хочу поделиться накопленным; не держу про запас, но отдаю всем.
Джен Релф.Май, 1997
О проекте
О подписке
Другие проекты