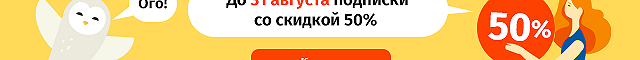
Тут вдруг, словно для того, чтобы разрешить эту загадку, из сада в дом вошел сам художник – из плоти и крови – и направился к Дэвиду.
– Уильямс, дорогой мой!
Он шел к Дэвиду, протянув для пожатия руку, в голубых брюках, темно-синей рубашке, и – неожиданно яркое напоминание об Оксфорде и Кембридже – в вороте рубашки сверкал шелком красный шейный платок. Совершенно седая голова, но брови гораздо темнее, хотя и в них достаточно седины, нос картошкой, обманчиво строгий рот, припухшие серо-голубые глаза на крепком загорелом лице. Бодр, движения быстрые, будто сознает, что не должен выказывать слабость; он оказался меньше ростом и более подтянут, чем Дэвид мог представить себе по фотографиям.
– Быть здесь, в вашем доме, – большая честь для меня, сэр.
– Бросьте, бросьте! Все это – чушь. – Старик сжал Дэвиду локоть: улыбка и вопрос в светлых глазах под кустистыми бровями, снежно-белая прядь надо лбом, выражение лица пытливое и замкнутое одновременно. – О вас позаботились?
– Да. Все великолепно.
– Надеюсь, Мышь вас никак не огорчила? Она малость не в себе. – Старик стоял – руки на бедрах, – стремясь показать, что он молод и бодр, почти ровесник Дэвиду. – Воображает, что она Лиззи Сиддал. А я, получается, тот паршивый хлюпик-итальяшка… чертовски оскорбительно, а? Нет?
Дэвид рассмеялся:
– Я вроде бы заметил что-то…
Бресли поднял взгляд к потолку:
– Дорогой мой, вы не можете себе представить. До сих пор. Девчонки этого возраста. Ну, а как насчет чая? Да? Мы пьем чай в саду.
Они направились к двери в сад, и, проходя мимо, Дэвид указал на «Охоту при луне».
– Замечательно, что я снова ее вижу. Дай бог, чтобы в типографии с репродукцией не подкачали.
Бресли пожал плечами, словно его это нисколько не заботило, а может, и правда был безразличен к столь явной лести. Потом снова бросил на Дэвида пытливый взгляд:
– Ну а вы? Я слышал, вы не такой уж пирожок с ничем, а?
– Ну что вы!
– Читал ваш опус. Про тех, о ком вы там пишете, я и слыхом не слыхал. Здорово написали.
– Но вы со мной не согласны?
Бресли взял его под руку.
– Милый юноша, я ведь не ученый. Невежда в таких вещах, которые вы наверняка с детства, как мамкину титьку, знали. Вы просто удивитесь. Что поделаешь… Придется принимать меня таким, как есть, а? Нет?
Они вышли в сад. Девушка по прозвищу Мышь, по-прежнему босая и в белом арабском одеянии, прошла наискось через лужайку от дальнего конца дома. Она несла поднос с чашками и чайником и не обратила на мужчин никакого внимания.
– Ну, вот, что я говорил? – проворчал Бресли. – Задница ремня просит.
Дэвид подавил смешок. Подойдя к столу под катальпой, он заметил и вторую девушку: она поднялась с травы в той стороне лужайки, что была скрыта от дома кустами. Она, должно быть, все это время читала; теперь она двинулась им навстречу, с книгой в руке; на траве за нею он увидел шляпу с красной перевязью. Если Мышь казалась странной, эта особа выглядела просто нелепо. Еще ниже ростом, очень худая; заостренное личико под шапкой мелко завитых, крашенных хной красно-рыжих волос. Ее уступка девичьей скромности сводилась к тому, что она надела на себя мужскую или, по виду, скорее мальчишечью майку, выкрашенную в черный цвет. Майка едва – с большой натяжкой – прикрывала ей чресла. Веки она тоже накрасила черным. Она походила на тряпичную куклу: этакий неврастеничный голливог[43], с того конца Кингз-роуд, что пошире[44].
– Это Энн, – сказала Мышь.
– По прозванью Уродка, – добавил Бресли.
Бресли жестом пригласил Дэвида сесть рядом. Дэвид замешкался – ведь одного кресла не хватало, но Уродка довольно неуклюже опустилась на траву возле кресла подруги. Из-под черной майки показались во всей красе ярко-красные трусики. Мышь принялась разливать чай.
– Впервые в этих краях, Уильямс?
Вопрос давал Дэвиду возможность достойно вступить в беседу, тем более что его энтузиазм по поводу Бретани и ее ландшафтов был вполне искренним. Старик, казалось, был вполне доволен: он принялся рассказывать о своем доме, о его истории и о том, как он его отыскал; объяснил, почему решил покинуть Париж. Он с честью опровергал прилипшую к нему репутацию старого негодника: казалось, ему доставляет удовольствие принимать у себя в доме и иметь в качестве собеседника мужчину. Старик сидел, отвернувшись от двух девиц, совершенно не обращая на них внимания, и у Дэвида возникло и все более укреплялось ощущение, что им неприятно его присутствие – то ли из-за того, что он отвлекает от них внимание старика, то ли из-за официальной атмосферы, которую он привнес своим появлением, а может, и потому, что они уже назубок знали все, о чем старик сейчас рассказывал. Бресли отвлекся – опять-таки опровергая свою репутацию – на описание пейзажей Уэльса, заговорил о своем детстве и юности – до 1914 года. Дэвид знал, что мать Бресли – валлийка, знал и о том периоде во время войны, когда художник жил в Брекнокшире[45], но и подумать не мог, что старик сохранил не только память об этом суровом крае, но и любовь к нему и до сих пор тоскует по его холмам.
Речь Бресли была странной: скачущие интонации – то самоуверенные, то нерешительные; говорил он отрывисто, используя давно исчезнувшие из обихода словечки и перемежая фразы непристойностями; никакой интеллектуальности или тонкости понимания тут углядеть было невозможно: говорит как какой-нибудь эксцентричный адмирал в отставке, – скрывая усмешку, подумал Дэвид. Просто дух захватывало от неуместности этого устаревшего жаргона, когда-то свойственного британским высшим кругам, в устах человека, всю жизнь яростно отвергавшего все, что эти самые высшие круги столь же яростно отстаивали. И столь же неуместной выглядела седая прядь, наискось зачесанная на лоб: видимо, старик с юности сохранил прическу, от которой – после Гитлера – напрочь отказались люди помоложе. Она придавала ему мальчишеский вид, но желчное от природы, красноватое лицо и светлые, выцветшие глаза заставляли предполагать, что он гораздо старше и опаснее, чем выглядит. Было совершенно очевидно, что старый чудак хочет казаться намного добродушнее и глупее, чем на самом деле, понимая при этом, что провести никого не удастся.
И все же, если бы только девицы не молчали так упорно – Уродка даже потянулась за книгой и, опершись спиной о кресло подруги, снова взялась читать, – Дэвид чувствовал бы себя вполне в своей тарелке. Мышь, очень элегантная в белом арабском одеянии, сидела и слушала с таким видом, будто мысли ее бродили где-то далеко, – она словно сошла с одного из полотен Милле[46]. Если Дэвиду удавалось встретить ее взгляд, на ее миловидной физиономии появлялось некое подобие внимания: мол, я тут, с вами, отчего становилось только яснее, что это вовсе не так. Любопытство его росло: что же все-таки происходит здесь на самом деле, какая правда кроется за этой видимостью? Отправляясь в Котминэ, Дэвид не был к этому подготовлен: из слов издателя он заключил, что теперь старик живет в полном одиночестве, если не считать старой экономки-француженки. Атмосфера во время чаепития была совершенно семейная: отец и две молоденькие дочки. Только однажды старый лев показал когти.
Дэвид заговорил о Пизанелло, считая эту тему вполне безопасной, и о фресках, недавно обнаруженных в Мантуе. Бресли видел их в репродукциях, так что впечатления, как говорится, из первых уст его, похоже, по-настоящему заинтересовали; и хотя Дэвид не принял всерьез его предупреждение, старик, как оказалось, совершенно не разбирался в сложностях фресковой техники. Но как толь ко Дэвид завел речь об arriccio, intonaco, sinopie[47] и прочих тонкостях, Бресли прервал его возгласом:
– Уродка, детка моя, ради бога, брось эту хреновую книжицу и слушай.
Она подняла глаза, опустила растрепанную книжку и сложила руки на груди:
– Извиняюсь.
Извинение было обращено к Дэвиду – старика она вниманием не удостоила, – и в ее тоне слышалась нескрываемая скука: ты зануда, и все, что ты говоришь, – тоска зеленая, но раз он настаивает…
– А если уж ты произносишь это слово, то, ради всего святого, измени тон.
– А мы что, тоже участвуем? Не заметила.
– Херня.
– Да я и так слушала.
Девушка говорила с легким призвуком кокни[48], устало, грубовато.
– И не груби, черт бы тебя взял совсем.
– Нет, слушала.
– Херня.
Она состроила гримаску и взглянула на Мышь.
– Генри-и!
Дэвид улыбнулся:
– А что это за книга?
– Милый юноша, не лезьте не в свое дело. Будьте так любезны. – Старик наклонился вперед и погрозил девушке пальцем. – А теперь хватит. Поучись хоть чему-нибудь.
– Хорошо, Генри.
– Дорогой мой, простите нас, пожалуйста. Прошу вас, продолжайте.
Этот небольшой инцидент вызвал неожиданную реакцию со стороны Мыши. За спиной Генри она едва заметно кивнула Дэвиду; непонятно было, то ли она хотела сказать, что все это – совершенно нормально, то ли – чтобы он поскорее продолжил свой рассказ, прежде чем разразится полновесный скандал. Когда он заговорил снова, у него создалось впечатление, что она слушает с несколько большим интересом, чем раньше. Она даже задала какой-то вопрос – совершенно очевидно, она кое-что знала о Пизанелло. Должно быть, старик ей рассказывал.
Немного погодя Бресли поднялся с кресла и предложил Дэвиду пойти посмотреть его мастерскую в одном из строений позади сада. Девицы не тронулись с места. Выходя из сада сквозь высокую арку в стене следом за Бресли, Дэвид оглянулся и увидел, как тоненькая загорелая фигурка в черной майке потянулась за книгой: девушка снова принялась читать. Шагая по усыпанному гравием двору к протянувшимся по левую руку от них строениям, старик подмигнул Дэвиду:
– Вечно одно и то же. Только затащи вот таких молоденьких сучонок к себе в постель. Утратишь всякое чувство пропорции.
– Они – студентки?
– Мышь – да. А кем себя считает другая – бог ее знает.
Однако Бресли явно не желал о них разговаривать, словно они – всего лишь мотыльки, слетевшиеся на огонек свечи, всего лишь две высокой пробы фанатки, поклонницы его таланта. Он принялся описывать, какие изменения пришлось тут сделать, как все перестроить и что тут было раньше. Они прошли в открытую дверь главной студии – в бывший амбар, верхние помещения которого пришлось снести. Длинный стол, заваленный этюдами, набросками, листами бумаги, стоял перед широким новым окном, глядящим на север, на усыпанный гравием двор; столик с красками и кистями, знакомые запахи, знакомые атрибуты профессии и в дальнем конце – главенствующая надо всем здесь новая картина из серии Котминэ, уже почти законченная: огромное полотно – двенадцать футов на шесть – на специально сбитом станке, а перед ним – передвижные лесенки, чтобы можно было доставать до верха картины. И снова – сцена в лесу, но теперь уже с поляной в центре, и людей здесь гораздо больше, чем обычно; чувство, что все происходит как бы под водой, ощущается гораздо слабее, и надо всей сценой простерт небосклон первоклассного синего, почти черного цвета: можно было подумать, что все происходит ночью, но можно – что и днем; что на поляне царит зной или что начинается буря; ощущалась тревога, некая опасность, грозящая этим людям. На этот раз здесь чувствовались (но ведь Дэвид уже привык искать нечто подобное в его картинах) мотивы Брейгелей[49], может быть, и перепев самого себя – «Охоты при луне», висевшей в гостиной. Дэвид спросил с улыбкой:
– Ключ не предложите?
– Праздник в лесу? Может быть. Не решил еще. – Старик вглядывался в картину. – Кокетничает со мной, ускользает. Ждет своего часа.
– Мне кажется – очень хороша. Даже сейчас.
– Вот зачем мне женщины рядом нужны. Чувство ритма. Циклы у них и все такое. Знаешь, когда надо пере стать работать. А в этой игре девять десятых от ритма зависит. – Он взглянул на Дэвида. – Да вы и сами знаете. Вы же – художник, а? Нет?
Дэвид набрал побольше воздуху в легкие и бросился очертя голову, как на коньках по тонкому льду, объяснять, что, работая в одной студии с Бет, которая тоже художник, он прекрасно понимает, что Бресли имеет в виду. Старик развел открытые ладони – ну вот, видите – и, явно удовлетворенный, не стал расспрашивать Дэвида о его работах. Отвернулся и уселся на табурет у рабочего стола перед окном, потом протянул Дэвиду натюрморт – рисунок карандашом: полевые цветы – чертополох и ворсянка, в беспорядке разбросанные на столе. Рисунок поражал точностью изображения, хоть, может, и грешил некоторой безжизненностью.
– Мышь. Начинает обретать почерк, вам не кажется?
– Прекрасная линия.
Бресли мотнул головой в сторону огромной картины:
– Разрешаю ей помогать. Черновую работу.
– На этом полотне… – пробормотал Дэвид.
– Способная девочка, Уильямс. Не заблуждайтесь на ее счет. И не вздумайте над ней подсмеиваться. – Старик пристально смотрел на рисунок. – Заслуживает лучшего. – Он помолчал. Потом добавил: – Без нее ничего и не смог бы. Право.
– Уверен, она многому может у вас научиться.
– Знаю, что обо мне говорят. Старый распутник и всякое такое. В моем-то возрасте…
Дэвид улыбнулся:
– Больше не говорят.
Но Бресли вроде бы и не слышал.
– А я кладу на это все с прибором. И раньше клал. Если в их духе выражаться.
И он принялся рассуждать о возрасте, снова повернулся к картине; Дэвид стоял рядом, пристально вглядываясь в полотно; старик говорил о том, что воображение, способность постигать и замысливать новое с возрастом не атрофируются, вопреки тому, что ты сам предполагал в молодости. Уходят лишь физические силы, психологическая твердость – как утрачивает твердость и твой бедный старый… дружок, которому, как и тебе, становится все труднее осуществлять задуманное. Нуждаешься в посторонней помощи. – Казалось, ему стыдно, что приходится признаваться в этом. – «Отцелюбие римлянки»[50]. Знаете эту вещь? Молодая бабенка кормит грудью старого пердуна. Часто об этом думаю.
– Не думаю, что это идет на пользу лишь одной из сторон, как предполагаете вы. – Дэвид указал на рисунок с цветами. – Вы бы видели, какое художественное образование молодежь в Англии сейчас получает.
– Вы думаете?
– Уверен. Большинство даже рисовать не умеет.
Бресли пригладил седую шевелюру; вид у него снова был совершенно мальчишеский, трогательно неуверенный. И Дэвид почувствовал, что поддается обаянию этого застенчивого и все же открытого человека, прячущегося за грубостью языка и внешних манер, человека, видимо решившего ему довериться.
– Надо бы ее гнать отсюда. Духу не хватает.
– Разве не ей решать?
– А она вам ничего не говорила? Когда вы приехали?
– Она прекрасно сыграла роль ангела-хранителя.
– Показала себя, стало быть.
Это было сказано довольно мрачно, с какой-то сардонической усмешкой и осталось без объяснения: старик неожиданно встал, снова бодрый и энергичный, и мельком, как бы извиняясь, коснулся руки Дэвида.
– Да к черту все это. Приехали мне допрос третьей степени устроить, а? Нет?
Дэвид попросил рассказать о подготовительных стадиях работы над картиной.
– Метод проб и ошибок. Много рисую. Вот, смотрите.
Он подвел Дэвида к противоположному концу стола. Рабочие наброски, этюды, рисунки – все это он показывал с той же странной смесью самоуверенности и застенчивости, с какой рассказывал о Мыши, словно боялся критики и в то же время подозревал, что ее не будет.
Похоже было, что новая картина зародилась из весьма смутного воспоминания о раннем детстве, о посещении какой-то ярмарки – он не помнил, где именно; ему было лет пять или шесть, и он с нетерпением ждал этого праздника; это было острейшее переживание, необычайное удовольствие; и теперь еще ему помнилось непреодолимое стремление ребенка – даже в воспоминании, казалось, все еще дышит тогдашнее вожделение – зайти в каждую палатку, подойти к каждому ларьку, все увидеть, все попробовать. И вдруг – гроза, которая, скорее всего, не была неожиданностью для взрослых, но ребенка почему-то удивила и потрясла до глубины души, принеся жесточайшее разочарование. Тема ярмарки, ее внешние атрибуты, постепенно исчезала из набросков, представленных во множестве вариантов и гораздо тщательнее разработанных, чем ожидал Дэвид, и в конце концов оказалась совершенно изгнанной из окончательного «имаго»[51]. Впечатление создавалось такое, будто медленно и постепенно, выстраивая одну композицию за другой и постоянно совершенствуясь, художник освобождается от неуклюжего буквализма – концептуального коррелята языка, каким он изъясняется в жизни, – уходит прочь от дословности. Но рассказ его объяснил странную наполненность, сияющую загадочность центральной сцены. Метафизические параллели, сгустки света, словно малые планеты, летящие – каждая – в своей не имеющей предела ночной тьме, и тому подобные детали были, пожалуй, чуть слишком очевидны, чуть слишком отдавали «Олимпией»[52]. Проще говоря, здесь было что-то от пессимистических банальностей о положении и судьбах человечества. Но тон картины, ее настроение, сила и выразительность, с какими был изложен сюжет, оказались необычайно убедительны, несли в себе нечто такое, что сводило на нет всегдашнее предубеждение Дэвида против откровенно литературных сюжетов в живописи.
Беседа захватывала все новые и новые темы. Дэвиду удалось разговорить старика о его прошлом, о его жизни во Франции в двадцатые годы, о дружбе с Браком[53] и Мэтью Смитом. О преклонении Бресли перед Браком писали довольно много, но старик явно жаждал убедиться, что Дэвиду об этом известно. Разница между Браком и такими художниками, как Пикассо, Матисс и «вся эта шайка-лейка», заключалась, по его мнению, в том, что Брак был великий человек, а другие – всего лишь «великие мальчишки».
– Они и сами это понимали. И он понимал. Все всё понимали. Только весь остальной мир ни фига не понял.
Дэвид не спорил. Бресли произносил имя Пикассо так, что по-английски получалось что-то вроде «катись в зад»[54]. Но в целом непристойности в его речи пошли на убыль. Нелепая маска человека невежественного сдвинулась, из-под нее проглянуло истинное лицо старого космополита. Дэвид вдруг заподозрил, что тигр-то – бумажный или, во всяком случае, что он имеет дело с человеком, по-прежнему живущим в мире, существовавшем еще до его, Дэвида, рождения. Редкие вспышки прежней агрессивности порождались смехотворно устаревшими представлениями о том, что должно шокировать человека, что именно может на него подействовать, как красная тряпка на быка; перевернув метафору, можно было бы сказать, что сам Дэвид выступал сейчас в роли матадора, сражающегося со слепым быком. Только самонадеянный кретин мог угодить такому быку на рога.
Незадолго до шести они направились назад, к дому. Девушки опять куда-то скрылись. Бресли провел Дэвида в комнату первого этажа – показать висевшие там картины. О каждой ему было что рассказать, восхищенные оценки его не допускали возражений. Один из прославленных художников получил черный шар за излишнюю гладкость:
– Уж больно легок, черт бы его взял совсем. По дюжине картин в день пишет, знаете ли. Ленив до мозга костей. Это-то его и спасло. Тонкости – ни хрена.
А на вопрос о том, чего он искал в картинах, когда их покупал, старик опять ответил вполне откровенно:
– В какие ценности деньги вкладывать, милый юноша. Подстраховывался. Никогда не думал, что мои вещи могут чего-то стоить. Ну, а чья, на ваш взгляд, вот эта штука?
О проекте
О подписке
