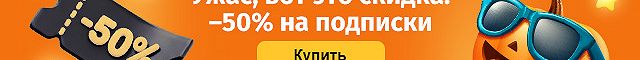
1: Дитя Америки
Я – дитя Америки.
Если я когда-нибудь окажусь в камере смертника за мои революционные «преступления», в качестве последнего ужина я закажу гамбургер, картофель фри и «коку».
Меня прикалывают большие города.
Я люблю читать спортивные и светские колонки, слушать радио и смотреть цветное ТВ.
Меня прет от супермаркетов, громадных торговых центров и аэропортов. Я чувствую себя в безопасности (необязательно будучи голодным), когда вижу один из ресторанчиков Говарда Джонсона[22] у магистрали.
Я тащусь от голливудских фильмов, даже от плохих.
Я знаю только один язык – английский.
Я обожаю рок-н-ролл.
Я коллекционировал карточки с бейсбольными игроками, когда был ребенком, и мечтал играть на второй базе за Cincinnati Reds, команду моего штата.
У меня появилась машина, когда мне исполнилось шестнадцать, после срыва первого экзамена на вождение и недельного ожидания второй попытки в слезах.
Я пошел во что-то наподобие средней школы, для поступления в которую нужно сдать тест.
Закончил ее с очень низкими оценками.
Однокашники называли меня самым «занятым» старшеклассником.
У меня была короткая-короткая стрижка.
Я врубался в «Над пропастью во ржи».
Прыщей у меня не было.
Я стал молодым репортером-асом Cincinnati Post и Times-Star. Сан, главный редактор, говорил:
– Однажды ты станешь охренительным репортером, может, даже лучшим репортером, когда-либо работавшим в этом городе.
Мне нравился Адлай Стивенсон[23].
Мой отец водил грузовик с хлебом, а позднее стал секретарем в Союзе хлебобулочных шоферов. Он рубился от Джимми Хоффы[24] (как и я сейчас). Умер от сердечной недостаточности в возрасте 52 лет.
У моей матери было высшее образование. Она играла на пианино. Умерла, когда ей было 51, от рака.
Я заботился о брате Джиле с тех пор, как мне исполнилось 13.
Я увернулся от призыва.
Пошел в Колледж Оберлина, где проучился год, закончил Университет Цинциннати, провел 1,5 года в Израиле и начал учиться в Калифорнийском Университете в Беркли.
Благополучно оттуда вылетел.
Я выпал из Белой Расы и Американской Нации.
Я просекаю всю крутость свободы.
Я люблю курить траву.
У меня нет ни пиджака, ни галстука.
Я живу ради революции.
Я – йиппи!
Я – сирота Америки.
2: ЭЛвис Пресли убил Айка Эйэенхауэра
Новые левые расправили плечи. Предсказанные отмудоханные дети из придурковатого припева Элвиса.
Давай, скажи своему брату,
Где можно переждать конец —
Вниз по Аллее Одиноких,
В Отеле Раскуроченных Сердец.
На поверхности мир 1950-х был безмятежен, как Эйзенхауэр. История к обложке «Мне нравится Айк», авторитет и достаток.
За красивой витриной молчаливые люди матюгали цепи, сковавшие их души. Латентная драма подавления эмоций и недовольства.
Америка угодила в капкан собственных противоречий.
Папа глядел на свой дом, машину и красиво подстриженный газон возле них. Он был горд. Всю его жизнь определяло имущество.
Он пытался учить своих детей: твердил – не делать ничего, что могло бы отвлечь нас от пути к Успеху.
работай не дурачься
учись не тунеядствуй
подчиняйся не задавай вопросов
вписывайся не выделяйся
мысли трезво не принимай наркотики
зарабатывай деньги не сей ветер
Нас воспитывали в догмах самоотречения: нам талдычили, что ебаться плохо, потому что это аморально. Что залетевшая телка стоит на пути к Респектабельности и Успеху.
Нас предупреждали, что онанизм приводит к сумасшествию и угрям.
Мы смущались. Мы не могли врубиться, зачем нужно вкалывать с утра до ночи ради покупки дома большей площади. Или более крупных машин. Или филигранно подстриженных газонов.
Мы сходили с ума. Терпеть было уже невмоготу.
Элвис Пресли отымел Айка Эйзенхауэра, пронзив наши юные, неспокойные, скованные сердца своим голосом. Энергия тяжелого животного рока ставила нас на дыбы, заводной ритм давал волю подавленным страстям.
Музыка, освобождавшая дух.
Музыка, сплотившая нас.
Бадди Холли[25], The Coasters[26], Бо Диддли[27], Чак Берри[28], The Everly Brothers[29], Джерри Ли Льюис[30], Фэтс Домино[31], Литтл Ричард[32], Рэй Чарльз[33], Bill Haley and The Comets[34], Фабиан[35], Бобби Дэрин[36], Фрэнки Эвалон[37]: все они подарили нам жизнь/бит и освободили.
Элвис велел нам раскрепоститься!
Культура богатеев, произведя авто и авторадио для каждого семейства среднего класса, подарило Элвису базу для вербовки.
Пока радио в машинах у передних сидений рокотало «Turn me loose»[38](«Дай мне оттянуться»), дети на задних сидениях срывались с цепи. Немало вечеров мы провели на темных и пустынных дорогах, изгаляясь под ритмы тяжелого рока.
Заднее сиденье породило сексуальную революцию, а радио в машине стало инструментом диверсионной деятельности.
Отчаянные родители использовали разрешение на вождение машины для демонстрации силы:
– Если ты не будешь слушаться, ты не получишь машину на субботний вечер.
Это было беспощадным оружием, разившим наши половые железы и возможности совместного времяпрепровождения.
Заднее сиденье стало первым полем боя в войне поколений.
Рок-н-ролл обозначил начало революции.
3: Ближний Запад
Че стоял перед нами в зрительном зале Министерства труда. Он оказался ниже, чем мы ожидали, – около 1,77 метра. На нем была униформа оливкового цвета. В кобуре красовался револьвер. Он крепко и весело обнял нас.
Мы – это 84 американских студента, нелегально посетившие Кубу в 1964 году. Нам пришлось преодолеть 22,5 тысячи километров, через Чехословакию, чтобы добраться до Кубы, находящейся в 140 километрах от побережья Флориды.
Те четыре часа, что Че выступал, мы фантазировали, как возьмемся за винтовки. Отрастим бороды. Уйдем партизанить в горы. Присоединимся к Че для разжигания революций по всей Латинской Америке. Никто из нас не горел желанием вернуться домой и вновь окунуться в политическое блядство Соединенных Штатов.
А потом Че вытряхнул из нас мечту о Сьерра-Мад-ре, сказав:
– Вы, американцы, везунчики. Вы живете на Ближнем Западе. Вы сражаетесь в самой важной битве, в эпицентре войны. Была бы моя воля, поехал бы с вами в Северную Америку и боролся бы там. Я вам завидую.
4: ДСС – заткнуть долбоеба!
Все началось с указа из 14 слов, изданного деканом Университета Калифорнии в Беркли и запрещавшего политические лозунги, листовки и демонстрации на кампусе.
Мы были обескуражены. Судя во всему, проблема заключалась в неумении «общаться». Но с каким бы деканом мы ни беседовали, он отрезал:
– Я ничего не могу с этим поделать. Я за это не отвечаю. Но вам придется придерживаться правил.
А что же ректор университета Кларк Керр? Никто даже не представлял, как он выглядит.
Потом всплыла подковерная история: в предыдущем году, когда мы использовали кампус для проведения масштабных демонстраций за гражданские права – против авто— и гостиничной индустрий Сан-Франциско, мы затронули интересы расистов, которые одновременно контролировали университет! И вот они попытались защитить свой бизнес, атаковав нас дома – на кампусе. Они были членами правления университета. Они тусили по загородным клубам и скорее насрали бы студенту на голову, чем поговорили с ним.
Мы установили доски с призывами за гражданские права в центре кампуса.
Мы твердо вознамерились опрокинуть новые правила.
Полицейская машина подсосалась к площади. Когда копы повели одного из активистов к экипажу, кто-то крикнул:
– Садимся!
За несколько секунд машину окружили несколько сотен человек. За несколько минут наше число выросло до двух тысяч.
В «мусоровозе» сидел Джек Вайнберг, пленник свиней. Но, поскольку мы их окружили, теперь уже они были нашими пленниками.
Мы требовали отпустить Джека в обмен на их собственное освобождение. Копам пришлось бы ехать по телам, чтобы доставить нашего брата в тюрьму.
Мы залезали на крышу машины, чтобы вещать о происходящем. В последующие 10 часов на площадь кампуса стеклись 5000 человек, чтобы устроить самый масштабный в нашей жизни семинар.
Захватив транспорт, мы вдруг осознали, что представляем собой новое сообщество с его энергией и любовью, пришедшими на смену устаревшим институтам.
Нашей силой была готовность умереть всем вместе.
Мы создали спонтанное правительство. Кто-то собирал коммуны для приготовления сэндвичей – для тех, кто окружал авто. Мы известили СМИ и связались со студентами по всей стране, создав делегацию для ведения переговоров на случай, если окажемся в осаде.
32 часа спустя до нас донесся угрюмый рев приближающихся ментовских мотоциклов из Окленда. Я сделал глубокий вдох.
– Ну что ж, это такое же хорошее место для того, чтоб умереть, как и любое другое.
Но тогда, когда мы уже были готовы испробовать на себе тяжелую дубину Большого Босса, университет внезапно снял обвинения с арестованного и согласился «сотрудничать».
Впервые за всю историю США деканы впечатались мордами в стену.
Они не очень поняли, что произошло.
Через два месяца мы просекли их бюрократический трюк: ебучие деканы использовали «переговоры» как уловку, чтобы нас вымотать. Болтай, болтай, болтай, пока правила в отношении запретов на политическую активность не станут еще строже.
Мы охуевали.
И вот, одним прекрасным полднем, под пение Джоан Баэз[39] и ораторство Марио Савио[40] тысяча человек вошла в здание администрации, чтобы заткнуть долбоеба.
В 16.00 губернатор, либерал-демократ, приказал оклендским копам очистить здание: 800 арестованных, крупнейший массовый забор в американской истории.
Вид копов на кампусе бросил всех протестующих, включая профессоров, в лапы экстремистов.
Студенты отреагировали забастовкой, которая парализовала университет. Мы попрали его авторитет.
Единственным авторитетом на кампусе осталось Движение за свободу слова (ДСС). Члены правления и деканы больше не имели над нами власти. Студенты могли делать все, что заблагорассудится.
Студенты стали величайшей политической силой штата с университетом в качестве партизанской крепости.
Власть на кампусе была у нас в руках, потому что мы были в большинстве. Но за пределами кампуса политики, суды и копы вовсю точили ножи по наши яйца.
Так белые дети из среднего класса начали войну против Америки в школах и на улицах.
5: Становление нестудента
Движение за свободу слова приглашало молодых в Беркли. И вот, тысячи стекались из Нью-Йорка и со Среднего Запада, чтобы жить у нас на улицах.
Жизнь могла быть и похуже. Погода стояла теплая, сезоны менялись медленно и несущественно, потому тратиться на зимнюю одежду было не нужно. К тому же всегда имелся вариант прокормиться, продавая траву. Или перехватить бутерброд на выходных и отложить деньги на остаток недели. К тому же всегда можно было стрельнуть денег у виноватых профессоров. Кое-кто зачинал какое-нибудь кустарное производство – продавали бижутерию, свечи и другие вещи собственного изготовления – прямо на авеню.
Словом, голодающих на улицах Беркли не было.
Из крупнейшего университета в мире вырвалась целая культура. Телеграф-авеню была длиной в пять зданий – книжные магазины, летние кафе, лавки с постерами и кинотеатры, крутившие андеграундные фильмы.
Прикиньте прилежного студента, приехавшего из пригорода Лос-Анджелеса учиться в Беркли. Шлепая с лекций в свою общагу или квартиру после тяжелого дня, он проходит по Телеграф-авеню, словно пробираясь по пантеону революции.
Он минует магазин пластинок и невольно внимает паре строчек из песни Дилана.
И такое же дитя пригородов, как он сам, разве что босоногое, как Иисус, подруливает к нему с вопросом: «Мелочишки не найдется?»
Постепенно в сознание правильного студента просачивается мысль: «Вот он я, обремененный задачами, ответственностью и чувством вины человек, и все это мне навязали. А вот эти хиппи на улицах – они могут делать, что захотят. Могут дуть целый день. Могут загорать дни напролет, тогда как я вынужден просиживать штаны в душных аудиториях, слушая нудных профессоров и сдавая экзамены, превращающие меня в нервную развалину».
Университет – это место, где можно добиться всего, крысиные бега под высоким давлением. Конкуренция вокруг званий, степеней, книг, рекомендаций, поступления в аспирантуру и получения хорошей работы.
Академический мир построен на иерархии, и каждый лижет задницу того, кто сидит выше.
Но все студенты видели живой пример тысяч молодых людей, которые положили болт на правильный мир и освободились. То были настоящие студенты в классическом понимании образования как самосовершенствования. И поскольку многие хиппи в прошлом сами были студентами, их переполнял энтузиазм относительно исполнения миссии исправившегося грешника.
Студенты принялись околачиваться под нестуденческими транспарантами, забывая посещать лекции.
Их интерес к учебе угасал по мере роста волос.
Чем дольше они курили дурь, тем более абсурдными казались им экзамены и научные статьи.
Пошла волна массовых вылетов из университета.
Самым диким преподавателем в Беркли был Стю Альберт. Он сидел под транспарантом Комитета вьетнамского дня и привлекал огромные толпы народа как первый увиденный революционер с развевающимися светлыми кудрями и голубыми глазами, выдававшими нечистую силу. Но, чем больше на него смотрели, тем больше Стю всех цеплял своими свирепыми полемиками насчет дури, Вьетнама, Бога, университета, секса и коммунизма. Это неминуемо бесило профессоров. Им приходилось принуждать студентов посещать их лекции методом кнута и пряника.
Но Стю перебежал им дорожку, держа всеобщее внимание одним тем, что изъяснялся в свободной манере.
Он учил на свежем воздухе, вместо того чтобы загонять студентов в пыльные аудитории. Но он не имел права преподавать. Он не получил необходимую бумажку, как это сделали все остальные. Он был аутсайдером.
Университет преобразовался в крепость, наводненную нашими длинноволосыми, планокурящими, босоногими фриками со своей культурой, использовавшими территорию университета как игровую площадку. Это угрожало целостности университета и взбеленило политиков штата.
Политики объявили нас предателями, тратящими деньги налогоплательщиков на спонсорство нашей измены.
Консервативные силы штата давили на университет приказами вычистить понаехавшую мразь.
Университет с готовностью согласился, обнаружив, что паразиты подтачивают фундамент заведения как изнутри, так и снаружи.
Начальники учинили операцию «Усмирение», отделяя «людей» от мятежников. Точно так же американцы во Вьетнаме вышвыривают крестьян из их домов и запирают в специально созданных стратегических поселениях, окруженных колючей проволокой, «чтобы Вьетконг держался подальше».
Администрация университета решила сделать из университета одно большое поселение такого рода, выдумав категорию «нестудент». Воткнув приставку «не» перед теми, кто отвисал на Телеграф-авеню, они исключили нас из человеческой расы. То же самое сделала Германия, введя термин «неариец». Отныне все плохое, что творилось в Беркли, можно было свалить на «нестудентов».
Мы, разумеется, рубились от нового прозвища. Оно выразило все то, что мы так долго хотели донести. Мы плюнули на статус, карьеру и все прочие символы американского общества.
Мы гордились этим символом отрицания в нашей идентификации.
Чтобы избавиться от свободных духом людей вроде Стю, как от Сократа, администрация университета издала указ, запрещающий нестудентам присутствовать на кампусе, если только их не привели с собой студенты.
Университет вывел за грань закона распространение листовок нестудентами на кампусе и заявил, что любая организация, в которой числятся нестуденты, не имеет права использовать университетские помещения.
Законодательный орган штата Калифорния одобрил так называемый Акт Малфорда: нестудент, не покидающий кампус после соответствующего указания официального представителя университета, может быть арестован за незаконное проникновение.
Дабы провернуть все эти штучки, университет призвал целого копа на полный рабочий день, в течение которого он должен был разгуливать по кампусу в поисках нестудентов, шпионя за политически активными студентами, выслеживая нарушения правил, составляя досье и работая в тесной связке с Красными бригадами[41], ФБР и ЦРУ.
Стю вычислил его и проорал:
– Салют, Джеймс Бонд!
Прозвище прижилось.
Целью было кастрировать студентов.
Если студент был политически активен, его выкидывали пинком под зад, превращая в нестудента. Марио Савио, архетипический студенческий лидер, стал нестудентом.
Студент определялся как некто со студаком в кармане, а вовсе не как кто-то, увлеченный учебой.
Работала тоталитарная формула «дважды подумай, прежде чем что-то сказать».
А вот президенту универа, Кларку Керру, нужно было симпатизировать. Он так гордился своими статистическими данными и графиками. Миллионами, которые он выклянчивал у федерального правительства и крупных бизнесменов. Количеством лауреатов Нобелевской премии от его университета. Объемами смет на здания, которые предполагалось построить. Изобретенным оружием. Новыми кафедрами. Футбольными командами. Но, куда бы Керр ни прибыл в стране, никто и не думал спрашивать его о лауреатах Нобеля или программах развития.
– Что там с теми студенческими демонстрациями на кампусе? – осведомлялись у него вновь и вновь.
Бедный Керр. Мы стащили у него университет прямо из-под носа.
Я шел в «Медвежью Берлогу» проглотить гамбургер, когда увидел сидячую забастовку.
Никогда не могу отказаться от сидячей забастовки.
О проекте
О подписке
Другие проекты

