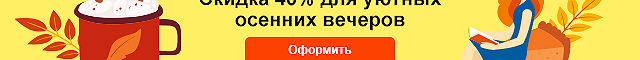
Камин в гостиной не разгорался в тот вечер, и мистер Дедал прислонил кочергу к прутьям решетки и ждал, когда займется пламя. Дядя Чарльз дремал в углу полупустой, не застеленной ковром комнаты. Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, затоптанный грузчиками. Стивен сидел на низенькой скамеечке около отца, слушая его длинный бессвязный монолог. Вначале он понимал очень немного или вовсе ничего не понимал, но постепенно стал улавливать, что у папы были враги и что предстоит какая-то борьба. Он чувствовал, что и его вовлекают в эту борьбу, что на него возлагаются какие-то обязательства. Неожиданный отъезд, так внезапно нарушивший его мечты и спокойную жизнь в Блэкроке, переезд через унылый туманный город, мысль о неуютном голом помещении, в котором они теперь будут жить, заставляли сжиматься его сердце. И снова какое-то прозрение, предчувствие будущего охватывало его. Он понимал теперь, почему служанки часто шептались между собой в передней и почему папа, стоя на коврике у камина, спиной к огню, часто во весь голос говорил что-то дяде Чарльзу, а тот убеждал его сесть и пообедать.
– Я еще не сдался, Стивен, сынок, – говорил мистер Дедал, яростно тыкая кочергой в вялый огонь в камине, – мы еще повоюем, черт подери (Господи, прости меня), да и как еще повоюем!
Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз сделался таким бестолковым, что его нельзя было посылать с поручениями, а из-за беспорядка, царившего в доме после переезда, Стивен был свободнее, чем в Блэкроке. Вначале он только отваживался бродить по соседней площади или спускался до середины одного переулка – но потом, мысленно составив себе план города, смело отправился по одной из центральных улиц и дошел до таможни. Он бесцельно бродил по набережным мимо доков, с удивлением глядя на множество поплавков, покачивавшихся на поверхности воды в густой желтой пене, на толпы портовых грузчиков, на грохочущие подводы, на неряшливо одетых, бородатых полисменов. Огромность и необычность жизни, о которой говорили ему тюки товаров, сваленные вдоль стен или свисавшие из недр пароходов, снова будили в нем то беспокойство, которое заставляло его блуждать по вечерам из сада в сад в поисках Мерседес. И среди этой новой кипучей жизни он мог бы вообразить себя в Марселе, но только здесь не было ни яркого неба, ни залитых солнцем решетчатых окон винных лавок. Смутная неудовлетворенность росла в нем, когда он смотрел на набережные, и на реку, и на низко нависшее небо, и все же он продолжал блуждать по городу день за днем, точно и в самом деле искал кого-то, кто ускользал от него.
Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам, и, хотя они шли мимо веселого ряда сверкающих огнями магазинов, украшенных к Рождеству, он оставался молчалив, угрюмая замкнутость не покидала его. Причин для угрюмости было много – и прямых и косвенных. Ему досаждало, что он еще так юн, что поддается каким-то глупым неуемным порывам, досаждала перемена в их жизни, превратившая мир, в котором он жил, во что-то убогое и фальшивое. Однако досада не привнесла ничего нового в его восприятие окружающего мира. Он терпеливо, отстраненно отмечал все то, что видел, и втайне впитывал этот губительный дух.
Он сидел на табуретке в кухне у своей тети[53]. Лампа с рефлектором висела на покрытой лаком стене над камином, и при этом свете тетя читала лежавшую у нее на коленях вечернюю газету. Она долго смотрела на снимок улыбающейся женщины, потом сказала задумчиво:
– Красавица Мейбл Хантер.
Кудрявая девочка[54] поднялась на цыпочки и, поглядев на снимок, тихо спросила:
– В какой это пьесе, мама?
– В пантомиме, детка.
Девочка прижала кудрявую головку к руке матери и, глядя на портрет, прошептала, словно завороженная:
– Красавица Мейбл Хантер.
Словно завороженная, она, не отрываясь, смотрела на эти лукаво усмехающиеся глаза и восхищенно шептала:
– Ах, какая прелесть.
Мальчик, который вошел с улицы, тяжело ступая и согнувшись под мешком угля, слышал ее слова. Он проворно сбросил на пол свою ношу и подбежал посмотреть. Он тянул к себе газету покрасневшими и черными от угля руками, отталкивая девочку и жалуясь, что ему не видно.
Он сидит в узкой тесной столовой в верхнем этаже старого с темными окнами дома. Пламя очага пляшет на стене, а за окном над рекой сгущается призрачная мгла. Старуха возится у очага, готовит чай и, не отрываясь от своего занятия, тихо рассказывает, что сказали священник и доктор. И еще она говорит, какие перемены наблюдаются в последнее время у больной, какие странности в поступках и речах. Он слушает эти речи, а мысли его поглощены приключениями, которые разворачиваются перед ним в тлеющих углях – под арками и сводами, в извилистых галереях и тесных пещерах.
Внезапно он чувствует какое-то движение в дверях. Там, в сумраке, в темном проеме приоткрытой двери, повис череп. Жалкое существо, похожее на обезьяну, стоит там, привлеченное звуками голосов у очага. Ноющий голос спрашивает:
– Это Жозефина?
Суетящаяся старуха, не отходя от очага, живо откликается:
– Нет, Элин, это Стивен!
– А... Добрый вечер, Стивен.
Он отвечает на приветствие и видит на лице в дверях бессмысленную улыбку.
– Тебе что-нибудь нужно, Элин? – спрашивает старуха.
Но та, не отвечая на вопрос, говорит:
– Я думала, это Жозефина. Я тебя приняла за Жозефину, Стивен. – Она повторяет это несколько раз и тихонько смеется[55].
Он сидит на детском вечере в Хэролдс-кроссе. Молчаливая настороженность все сильнее завладевает им, и он почти не принимает участия в играх. Дети, надев колпаки, которые достались им в хлопушках, прыгают и пляшут, но он, хоть и пытается разделить их веселье, все равно чувствует себя таким унылым среди всех этих задорных треуголок и чепцов.
Но когда, выступив со своей песенкой, он уютно устраивается в тихом уголке, одиночество становится ему приятно. Веселье, которое в начале вечера казалось ненастоящим, бессмысленным, действует теперь как успокаивающий ветерок, приятно пробегающий по чувствам, прячущий от чужих взглядов лихорадочное волнение крови, когда через хоровод танцующих, сквозь этот шум музыки и смеха, взгляд ее устремляется к его уголку, ласкающий, дразнящий, ищущий, волнующий сердце.
В передней одеваются последние дети[56]. Вечер кончился. Она набрасывает шаль, и, когда они вместе идут к конке, пар от свежего теплого дыхания весело клубится над ее закутанной головой и башмачки ее беспечно постукивают по замерзшей дороге.
То был последний рейс. Гнедые облезлые лошади чувствовали это и потряхивали бубенчиками в острастку ясной ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головой в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях валялось несколько цветных билетиков. С улицы не было слышно шагов ни в ту, ни в другую сторону. Ни один звук не нарушал тишины ночи, только гнедые облезлые лошади терлись друг о друга мордами и потряхивали бубенцами.
Они, казалось, прислушивались: он на верхней ступеньке, она на нижней. Она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, когда разговор замолкал, а раза два стояла минуту совсем близко от него, забыв сойти вниз, но потом сошла. Сердце его плясало, послушное ее движениям, как поплавок на волне. Он слышал, что говорили ему ее глаза из-под шали, и знал, что в каком-то туманном прошлом, в жизни или в мечтах, он уже слышал такие речи. Он видел, как она охорашивается перед ним, дразня его своим нарядным платьем, сумочкой и длинными черными чулками, и знал, что уже тысячи раз поддавался этому. Но какой-то голос, прорывавшийся изнутри сквозь стук его мятущегося сердца, спрашивал: примет ли он ее дар, за которым нужно только протянуть руку. И ему вспомнился день, когда он стоял с Эйлин, глядя на двор гостиницы, где коридорный прилаживал к столбу длинную полоску флага, а фокстерьер носился взад и вперед по солнечному газону, и она вдруг засмеялась и побежала вниз по отлогой дорожке. Вот и теперь, как тогда, он стоял безучастный, не двигаясь с места, – словно спокойный зритель, наблюдающий разыгрывающуюся перед ним сцену.
«Ей тоже хочется, чтобы я прикоснулся к ней, – думал он. – Поэтому она и пошла со мной. Я мог бы легко прикоснуться, когда она становится на мою ступеньку: никто на нас не смотрит. Я мог бы обнять и поцеловать ее».
Но ничего этого он не сделал; и потом, сидя в пустой конке и мрачно глядя на рифленую подножку, он изорвал в мелкие клочки свой билет.
*
На следующий день он просидел несколько часов у себя за столом в пустой комнате наверху. Перед ним было новое перо, новая изумрудно-зеленого цвета тетрадь и новая чернильница. По привычке он написал наверху на первой странице заглавные буквы девиза иезуитского ордена: А.М.D.G. На первой строчке вывел заглавие стихов, которые собирался писать: К Э– К—[57]. Он знал, что так полагается, потому что видел подобные заглавия в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и проведя под ним волнистую линию, он задумался и стал машинально чертить что-то на обложке. Ему вспомнилось, как он сидел у себя за столом в Брэе на следующий день после рождественского обеда и пытался написать стихи о Парнелле на обороте отцовских налоговых извещений[58]. Но тема никак не давалась ему, и, отказавшись от попытки, он исписал весь лист фамилиями и адресами своих одноклассников:
Родерик КикемДжек ЛотенЭнтони МаксуиниСаймон Мунен
Казалось, у него ничего не получится и теперь, но, размышляя о том вечере, он почувствовал себя увереннее. Все, что представлялось незначительным, обыденным, исчезло, в воспоминаниях не было ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей, даже он и она отступили куда-то вдаль. Стихи говорили только о ночи, о нежном дыхании ветерка и девственном сиянии луны; какая-то неизъяснимая грусть таилась в сердцах героев, молча стоявших под обнаженными деревьями, а лишь только наступила минута прощанья, поцелуй, от которого один из них удержался тогда, соединил обоих. Закончив стихотворение, он поставил внизу страницы буквы L.D.S.[59], и, спрятав тетрадку, пошел в спальню матери и долго рассматривал свое лицо в зеркале на ее туалетном столике.
Но долгая пора досуга и свободы подходила к концу. Однажды отец пришел домой с ворохом новостей и выкладывал их без умолку в течение всего обеда. Стивен дожидался прихода отца, потому что в этот день на обед было баранье рагу и он знал, что отец предложит ему макать хлеб в подливку. Но на этот раз подливка не доставила ему никакого удовольствия, потому что при упоминании о Клонгоузе у него что-то подступило к горлу.
– Я чуть было не налетел на него, – рассказывал в четвертый раз мистер Дедал, – как раз на углу площади[60].
– Так он сможет это устроить? – спросила миссис Дедал. – Я говорю насчет Бельведера.
– Ну еще бы, конечно, – сказал мистер Дедал. – Я же говорил тебе, ведь он теперь провинциал ордена.
– Мне и самой очень не хотелось отдавать его в школу христианских братьев, – сказала миссис Дедал.
– К черту христианских братьев! – вскричал мистер Дедал. – Якшаться со всякими замарашками Падди да Майки! Нет, пусть уж держится иезуитов, раз он у них начал. Они ему и потом пригодятся. У них есть возможности обеспечить положение в жизни.
– И ведь это очень богатый орден, не правда ли, Саймон?
– Еще бы! А как живут? Ты видела, какой у них стол в Клонгоузе? Слава Богу, кормятся как бойцовые петухи!
Мистер Дедал пододвинул свою тарелку Стивену, чтобы тот доел остатки.
– Ну, а тебе, Стивен, теперь придется приналечь, – сказал он. – Довольно ты погулял.
– Я уверена, что он теперь будет стараться изо всех сил, – сказала миссис Дедал, – тем более что и Морис будет с ним.
– Ах, Господи, я и забыл про Мориса, – сказал мистер Дедал. – Поди сюда, Морис, негодник. Поди ко мне, дурачок. Ты знаешь, что я тебя пошлю в школу, где тебя будут учить складывать К-О-Т – кот. И я тебе куплю за пенни хорошенький носовой платочек, чтобы ты им вытирал нос. Вот здорово будет, а?
Морис, просияв, уставился сначала на отца, а потом на Стивена. Мистер Дедал вставил монокль в глаз и пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен жевал хлеб и не глядел на отца.
– Да, кстати, – сказал наконец мистер Дедал, – ректор, то есть, вернее, провинциал, рассказал мне, что произошло у тебя с отцом Доланом. А ты, оказывается, бесстыжий плут.
– Неужели он так и сказал, Саймон?
– Да нет! – засмеялся мистер Дедал. – Но он рассказал мне этот случай со всеми подробностями. Мы ведь долго болтали с ним о том о сем... Ах да, кстати! Ты знаешь, что он мне, между прочим, рассказал? Кому, ты думаешь, отдадут это место в муниципалитете?[61] Впрочем, про это потом. Ну так вот, мы с ним болтали по-приятельски, и он спросил меня, ходит ли наш приятель по-прежнему в очках, и рассказал всю историю.
– Он был недоволен, Саймон?
– Недоволен! Как бы не так! Мужественный малыш, – сказал он.
Мистер Дедал передразнил жеманную, гнусавую манеру провинциала:
– Ну и посмеялись же мы вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. Берегитесь, отец Долан, – сказал я, – как бы юный Дедал не выдал вам двойную порцию по рукам! Ну и посмеялись же мы все. Ха, ха, ха.
Мистер Дедал повернулся к жене и воскликнул своим обычным голосом:
– Видишь, в каком духе их там воспитывают! О, иезуит – это дипломат во всем, до мозга костей.
Он повторил опять, подражая голосу провинциала:
– Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. Ха, ха, ха!
*
Вечером перед школьным спектаклем[62] под Духов день Стивен стоял у гардеробной и смотрел на маленькую лужайку, над которой были протянуты гирлянды китайских фонариков. Он видел, как гости, спускаясь по лестнице из главного здания, проходили в театр. Распорядители во фраках, старожилы Бельведера, дежурили у входа в театр и церемонно провожали гостей на места. При внезапно вспыхнувшем свете фонарика он увидел улыбающееся лицо священника.
Святые дары были убраны из ковчега, а первые скамейки отодвинуты назад, чтобы возвышение перед алтарем и пространство перед ним оставались свободными. У стены были поставлены гантели, булавы, в углу свалены гири, а среди бесчисленных груд гимнастических туфель, фуфаек и рубашек, засунутых кое-как в коричневые мешки, стоял большой деревянный, обшитый кожей конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену и вокруг, в конце показательных состязаний, выстроится команда-победительница.
Стивен, хоть он и был выбран старостой на занятиях по гимнастике за свою славу лучшего писателя сочинений, в первом отделении программы не участвовал, но в спектакле, который шел во втором отделении, у него была главная комическая роль учителя. Его выбрали на эту роль из-за его фигуры и степенных манер. Он был уже второй год в Бельведере и учился в предпоследнем классе.
Вереница маленьких мальчиков в белых гольфах и фуфайках, топая, пробежала через ризницу в церковь. В ризнице и в церкви толпились взволнованные наставники и ученики. Пухлый лысый унтер-офицер[63] пробовал ногой трамплин возле коня. Худощавый молодой человек в длинном пальто, который должен был жонглировать булавами, стоял рядом и с интересом наблюдал: блестящие посеребренные булавы торчали из его глубоких боковых карманов. Откуда-то доносился глухой треск деревянных шаров, команда готовилась к выходу; минуту спустя взволнованный наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей, суетливо хлопая крыльями сутаны и покрикивая на отстающих. Группа одетых неаполитанскими крестьянами мальчиков репетировала танец в глубине церкви – одни разводили руками над головой, другие, приседая, размахивали корзинками с искусственными фиалками. В темном углу придела за аналоем тучная старая дама стояла на коленях, утопая в ворохе своих пышных черных юбок. Когда она поднялась, стало видно фигурку в розовом платье, в парике с золотыми локонами, в старомодной соломенной шляпке, с подведенными бровями и искусно подрумяненными и напудренными щечками. Тихий изумленный шепот пробежал по церкви при виде этой девической фигурки. Один из наставников, улыбаясь и кивая, подошел к темному углу и, поклонившись тучной старой даме, сказал любезно:
– Что это – хорошенькая молодая леди или кукла, миссис Таллон?
И, нагнувшись, чтобы заглянуть под поля шляпки в улыбающееся накрашенное личико, он воскликнул:
– Не может быть! Да ведь это маленький Берти Таллон!
Стивен со своего наблюдательного поста у окна услышал, как старая леди и священник засмеялись, потом услышал восхищенный шепот школьников позади, подошедших посмотреть на маленького мальчика, который должен был исполнить соло – танец соломенной шляпки. Нетерпеливый жест вырвался у Стивена. Он опустил край занавески и, сойдя со скамейки, на которой стоял, вышел из церкви.
Он прошел через здание колледжа и остановился под навесом у самого сада. Из театра напротив доносился глухой шум голосов и всплески меди военного оркестра. Свет уходил вверх сквозь стеклянную крышу, а театр казался праздничным ковчегом, бросившим якорь среди тесноты домов и закрепившимся у причала на хрупких цепях фонарей. Боковая дверь театра внезапно открылась – и полоса света протянулась через лужайку. От ковчега грянул внезапно гром музыки – первые такты вальса, дверь снова закрылась, и теперь до слушателя долетали только слабые звуки мелодии. Выразительность вступительных тактов, их томность и плавное движение вызвали в нем то же неизъяснимое чувство, которое заставляло его беспокойно метаться весь день и минуту тому назад прорвалось в его нетерпеливом жесте. Беспокойство выплескивалось из него, словно волна звуков, и на гребне накатывающей музыки плыл ковчег, волоча за собой цепи фонарей. Потом шум – будто выстрелила игрушечная артиллерия – нарушил движение. Это аудитория аплодисментами приветствовала появление на сцене гимнастов.
В конце навеса, прилегавшего к улице, в темноте мелькнула красная светящаяся точка. Шагнув туда, он почувствовал легкий приятный запах. Двое мальчиков стояли и курили в дверном проеме; и еще издали он узнал по голосу Курона[64].
Конец ознакомительного фрагмента.
notes
Примечания
1
И к ремеслу незнакомому дух устремил (лат.)
Овидий. Метаморфозы, VIII, 18
2
Папа рассказывал ему эту сказку – ср. в письме Джона Джойса автору, 31 января 1931 г.: «Помнишь ли ты старые времена на Брайтон-сквер, когда ты был мальчик бу-бу, а я тебя водил в скверик и рассказывал про му-му, которая приходит с гор и забирает малышей».
3
Бетси Берн – Берн – фамилия университетского друга Джойса, послужившего прототипом Крэнли (гл. 5).
4
О, цветы дикой розы... – старинная ирл. сентиментальная песня «Лили Дэйл».
5
Дядя Чарльз и Дэнти – прототип дяди Чарльза – Уильям О'Коннелл из Корка, двоюродный дед автора, живший в семье Джойсов в 1887-1893 гг.
6
Эйлин – дочка соседей Джойсов, живших в доме 4 (а не 7) на Мартелло-террас в 1887-1891 гг.; именно она написала Джойсу, когда он был в Клонгоузе, письмо со стишком, который варьирует Леопольд Блум в «Калипсо».
7
Он топтался в самом хвосте... чувствовал себя маленьким и слабым – явный уход от автобиографичности. Джойс мальчиком был весел и боек, хорошо физически развит и не раз завоевывал призы в спорте, хотя и не терпел грубых видов его – бокс, борьбу, регби.
О проекте
О подписке