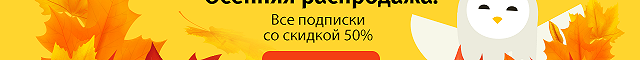
Успешное взаимообогащение радиоповествования и модернистской литературы отчасти объясняется их общей способностью к широкому распространению, не ограниченному географическими границами. Будь то в печати или в эфире, модернизм разворачивался как транснациональное движение с широким охватом. Например, в первые годы своего существования американский журнал Little Review первым опубликовал «Улисса» Джойса, а британский журнал Blast печатал произведения Эзры Паунда. Сам Паунд был агрессивным пропагандистом новой литературы без границ и, живя в Лондоне, познакомил Чикаго и Нью-Йорк с литературным модернизмом. Марианна Мур, Мина Лой, Гертруда Стайн, Д. Г. Лоуренс и У. Х. Оден также курсировали туда-сюда между Лондоном, Парижем и Нью-Йорком, превращая свой трансатлантический опыт в общее место модернизма. С появлением высокохудожественных радиопрограмм по обе стороны Атлантики литературный модернизм охватил еще большую аудиторию, завладев ее ушами, да и глазами. Учитывая это пересечение границ, любое исследование литературного модернизма и радио должно иметь широкий взгляд.
Рассматривая взаимодействие между литературным модернизмом и радиовещанием, я опираюсь на ряд недавних исследований. Например, авторы сборника «Транслируя модернизм» (2009) под редакцией Дебры Рэй Коэн, Майкла Койла и Джейн Льюти рассматривают, как писатели-модернисты всех мастей не только включали радио в свои сочинения в качестве технического устройства, но и принимали зарождающийся медиум, создавая произведения, нацеленные исключительно на слух. Что касается более узкоспециальных исследований, то книга Тодда Эйвери «Радиомодернизм: литература, этика и Би-би-си в 1922–1938 годах» (2006) рассматривает группу Блумсбери в связи с программами Би-би-си[25] о культуре, а Тимоти Кэмпбелл в книге «Беспроводное письмо в эпоху Маркони» (2006) пытается переосмыслить «Кантос» Эзры Паунда и его итальянские радиотрансляции в терминах беспроводной записи[26]. Несмотря на серьезное отношение к связи между радиовещанием и печатью, эти изыскания склонны фокусироваться на влиянии радио на литературу, а не на литературных свойствах радиофонического контента, как это делаю я в своей работе.
Книга «Утраченный звук» исследует, как модернизм был поглощен радио, и стремится понять, как литературные тексты вносили вклад в движение за «престиж» на радио середины 1930-х – 1940-х и позднее. На короткое мгновение в радиовещательной культуре открылась дверь, позволившая сложным формам повествования смешаться с преобладающими формами популярного радио. Потребность движения за «престиж» в некоммерческих передачах была удовлетворена заметным увеличением количества литературных произведений, которые, в свою очередь, бросили радиовещанию новые эстетические вызовы. Ранее ограниченные сиренами и выстрелами, радиофонические практики расширились, включив в себя спектр звуковой репрезентации, и тем самым удовлетворили требования, которые писатели предъявляли к формам вещания, адаптируя модернистские мотивы (диссонанс, фрагментация и интериоризация) к новому медиуму. После успеха «Колумбийской мастерской» и аналогичных передач в 1936 году сетевое радио было вынуждено пойти на эксперименты независимо от того, нравилось ему это или нет.
Ниже прослеживается взаимообмен между эволюционирующими радиофоническими техниками и меняющимися модернистскими текстовыми практиками в процессе развития радиоповествования. В то время как привычный подход к радиоконтенту в его так называемый золотой век был в основном дескриптивным, а не интерпретативным, мой анализ литературного прошлого радио рассматривает описания радиовещательной культуры как неотделимые от внимательного прочтения акустических радиотекстов. В соответствии с этим предположением в каждой главе обсуждение коммерческого и институционального давления радиовещания сочетается с углубленной интерпретацией литературных передач, заполнявших эфирное время.
Радио могло вернуть писателя-модерниста к истокам литературы, к аудиальности языка, но новый медиум не ограничивался речью. Произнесенное слово было лишь одним из звуков, который соперничал с другими – музыкой, акустическими эффектами, голосом, и это соперничество становилось тем сильнее, чем больше радио процветало и расширяло свой звуковой диапазон. Я утверждаю, что одно из самых интересных напряжений, которым отмечена история литературного радио, вызвано трением между повествованием, центрированным на слове, и повествованием, центрированным на звуке. Когда звук привлекает к себе внимание, он вызывает способность выходить за пределы своего референта, резонируя способами, более близкими к музыке, чем к языку. Такая звукоцентричность привносит другие смыслы, в том числе непреднамеренные ассоциации, а следовательно, обладает способностью подрывать значения слов, нарушая семантический порядок языка. Исторически сложилось так, что дестабилизирующий потенциал чистой аудиальности вызывал разные виды фонофобии. Антипатия Платона к Гомеру, сродни запрету Сократом поэзии в «Государстве», является тому печально известным примером, как и уничтожение трубного органа пуританами в Англии XVII века. В своем исследовании оперы Мишель Пуаза назвал подобные усилия по контролю над аудиальностью «эффектом доминирования», когда голос заставляют подчиниться режиму означивания благодаря примату устной речи – или тому, что Антонен Арто называл диктатурой слова. Эффект доминирования прикрепляет голос к порядку дискурса, чтобы сдержать его разрушительные эффекты и рассеять свойственное ему différance[27].
В эпоху расцвета радио эффект доминирования проявлял себя в разных формах – тонких и не очень. Эдвард Р. Марроу столкнулся с жестким сопротивлением со стороны Си-би-эс, когда пытался совместить записанную музыку и звуковые эффекты со своими репортажами с Лондонского блица[28], потому что сетевое радио запрещало использовать «записанные на пленку» звуки в эфире (запрет был снят лишь в конце 1940-х). Аналогичные ограничения были наложены и на драматические постановки в дневном эфире, дабы оградить устную речь от шума и ярости музыки и звуковых эффектов. К примеру, наиболее плодовитая студия «мыльных опер» установила фактическое эмбарго на производство экстравербальных звуков.
В радио середины века эффект доминирования представляет собой современное ответвление фонофобии, которая, по крайней мере со времен Платона, подкрепляла связь между произносимым словом и его значением. Цель всегда состояла в том, чтобы ограничить ауральность буквой языка, чтобы предотвратить любое скольжение между звуком и смыслом. Опасения заключались в том, что такого рода скольжение, или то, что я называю акустическим дрейфом, может помешать восприятию сообщения. На радио эффект доминирования был призван обеспечить прозрачность транслируемого звука (или хотя бы видимость таковой). Смысл эффекта доминирования заключался в том, чтобы наложить своего рода шумоподавление на радиоповествование, обеспечив главенство устного слова, в противовес характерной для акустического дрейфа тенденции к тому, чтобы свести на нет процесс означивания в пользу звукового jouissance[29].
Модернистские передачи оживили радио. Они возвысили драматургию и ввели в радиовещательную культуру другие жанры, такие как литературное эссе и повествовательную поэзию. Движение за «престиж» также поощряло эксперименты с формой повествования и вызывало интерес к радиофоническим техникам, расширявшим границы музыки и звуковых эффектов. Как следствие, повествование приобрело акустическую глубину и плотность, что привлекло внимание к природе самого медиума. В некоторых случаях радио становилось собственной историей в соответствии с модернистскими тропами самореференциальности с подразумеваемой критикой практики вещания. Из этого многообразия голосов и звуков – аудиальной сложности – возник радиомодернизм, который в своих более авангардных проявлениях исследовал непокорность звука в процессе означивания.
Центральная мысль «Утраченного звука» состоит в том, что радио как акустический медиум работает на границе звука и смысла, постоянно создавая напряжение между значением слова и значением звука (и адаптируясь к этому напряжению). Это напряжение по большей части было продуктивным, особенно в годы бума радиовещания, когда новые радиофонические практики приводили к избытку акустических знаков, которые бросали вызов привычным способам восприятия.
Вспышка аудиальности, которая вызвала новый звуковой режим, вдохновленный модернистской литературой, и отвязавшая звук от языкового значения, открыла путь более радикальным формам радиоискусства, но также спровоцировала и культурную обеспокоенность относительно статуса звука. Критики опасались, что если звук не всегда будет совпадать со значением, то слушатели могут отклониться от радиопослания, попав в волну акустического дрейфа. Как показано в первой главе этой книги, в то время как литературный поворот на радио оказался готов принять разрушительную сторону звука, сетевое вещание не вполне приветствовало акустический дрейф. Стремясь занять доминирующее положение на рынке, создатели мыльных опер, такие как Энн и Фрэнк Хаммерт, разработали форму враждебной к звуку театральности, которая пыталась обуздать звуковое изобилие радио. Однако, несмотря на коммерческий успех Хаммертов, новаторские эксперименты со звуковыми эффектами – такими, как марсианское «жужжание», раздающееся в середине «Войны миров», или вызывающий звуковой ландшафт пьесы Люсиль Флетчер «Автостопщик» – дали понять, что акустический дрейф станет ключом к выявлению скрытой силы звука.
Хотя радиоповествование находилось еще на своих ранних стадиях развития, ему не потребовалось много времени, чтобы обрести зрелость, о чем говорится во второй главе. Жизненно важным для литературного поворота на радио стало движение за престиж, запущенное отстававшей сетью Си-би-эс, которая стала пристанищем для изобретательных радиоавторов, чье творчество спасло радиовещательную культуру (по крайней мере, на некоторое время) от тяги к дневным мыльным операм и коммерческим передачам. Американскому сетевому радио едва исполнилось десятилетие, когда летом 1936 года Си-би-эс открыла «Колумбийскую мастерскую»[30]. Целью «Мастерской» было создание серьезной радиолитературы путем расширения возможностей драматургии и технологий вещания. Не только Орсон Уэллс, но и другие писатели, пришедшие на радио, включая Нормана Корвина, Арча Оболера и Арчибальда Маклиша (чья программа «Падение города» пошла дальше всех других в адаптации модернистского литературного стиля к радио), были приглашены расширить границы радиоповествования. За восемь лет существования «Мастерской» (1936–1943; 1946–1947) в эфир вышло около 400 произведений для радио, многие из которых (например, «Вечер на Бродвее» и «Меридиан 7–1212») были смелыми и экспериментальными исключениями из того, к чему привыкли слушатели[31].
Престижное радио внесло свой вклад в создание нового корпуса литературной классики – создание виртуальной общественной библиотеки, которая позволила Си-би-эс позиционировать себя не только как вещателя, но и как издателя[32]. Некоторым казалось, что появилась новая культурная форма, нечто менее эфемерное, чем ночные эстрадные шоу или дневные сериалы. Когда Си-би-эс поняла, что престижные драмы приносят ей пользу, она стала искать еще большего литературного блеска, и эти поиски привели к тому, что она обратилась к Орсону Уэллсу, восходящей звезде театра, с предложением создать новое еженедельное шоу «Театр „Меркурий“ в эфире»[33]. В третьей главе рассматривается подрывной радиогений Уэллса, заключавшийся в создании рассказчиков, которые своим многоголосием фрагментировали перспективу автора. Как показывают его радиоадаптации «Дракулы» и «Войны миров», Уэллс принял предпосылку о доминирующем повествовательном присутствии, но лишь для того, чтобы ее деконструировать. Дразня слушателей возможностями дискурсивного мастерства, он отказывал им в комфортной ясности единой монологической перспективы.
В конце 1930-х – начале 1940-х годов почти вся Америка слушала голос Эдварда Р. Марроу, который, благодаря иллюзорной близости, казался голосом закадычного друга, находящегося прямо в гостиной. Пристальное внимание Марроу к звуковым эффектам Лондонского блица стало одним из фирменных знаков его репортажей, и это пристрастие к звуку отличало его эссе от таких конкурирующих передач, как радиокомментарии. Хотя Марроу редко рассматривают как эссеиста, он добился стиля, который, по сути, был литературным подвигом, и этот стиль вызывал чувство причастности к истории, которое проникло бы в коллективный разум Соединенных Штатов, наполненный глубоко укоренившимися изоляционистскими предрассудками, о чем говорится в четвертой главе. Для достижения этой цели Марроу создал новый голос для радио, который нельзя было спутать с голосом традиционного комментатора, царящего в радионовостях. Как ни странно, Марроу разработал форму вещания, которая имела столько же общего с «Колумбийской мастерской» Си-би-эс, сколько и с печатной журналистикой, изобретя гибридный жанр, который в равной степени опирался как на модернистское литературное эссе (в духе Стефана Крейна и Джорджа Оруэлла), так и на американскую радиодраму.
Си-би-эс, возможно, и заработала престиж на восхищавшем всех мастерстве речи Марроу, но кто-то вынужден был заплатить за эту дискурсивную силу. Бетти Уэйсон была одним из репортеров, с которым, очевидно, это и произошло. Ее изгнание из эфира было незначительным случаем, отразившим гораздо более серьезную проблему сетевого радио, о которой пойдет речь в пятой главе: проблему говорящей женщины. Если радио было негостеприимно к женскому голосу в неисполнительских ролях, это предубеждение не ограничивалось политикой сети. Аналогичный вид стирания голоса нашел свое отражение в сюжетных линиях радиостанций и, по сути, был тематизирован в фантазиях о захвате и удушении на радио 1940-х годов. Многолетняя антология нуарных передач Си-би-эс «Саспенс» специализировалась на отчаявшихся и истеричных женщинах, чьи травмированные голоса отражали глубокую дискурсивную импотенцию женщин, навязанную радиосетями[34]. Дилемма кричащей женщины – озвученная незабываемым голосом Агнес Мурхед в «Простите, не тот номер» Люсиль Флетчер, самом популярном эпизоде «Саспенса», – воспроизводит ситуацию с женским голосом на радио. Женский голос был аутсайдером радио, его парией, не менее инопланетным, чем марсиане театра «Меркурий». Кричащая женщина выводила радио за пределы символического порядка слова, подрывая, казалось бы, естественные отношения между языком и смыслом[35].
Несмотря на эстетические различия, Дилана Томаса и Сэмюэля Беккета объединял, как будет показано в шестой главе, интерес к нарушению онтологических границ радио (между бытием и небытием, воплощением и развоплощением) путем заигрывания с подрывными свойствами звука. Для Томаса и Беккета голос – это не речь, а звук, и их радиопьесы, особенно «Под сенью млечного леса» и «Все, что падает», идут на крайние меры, чтобы освободить слово от речи, от логоса, дестабилизируя языковые коды. Используя заклинательную силу голоса, Томас драматизирует произвольность означивания через избыток звука, а Беккет настаивает на том, что разговорный язык принадлежит телу, и в воплощении мы находим новые способы усложнить символический порядок языка, если не воспротивиться ему, отомстив логосу за то, что он девокализировал язык[36].
Какими бы новаторами ни были Томас и Беккет, на границе звука и смысла оставалось место для новых экспериментов. Как показано в главе 7, Гленн Гульд радикально переосмыслил опыт слушателя, ниспровергнув традиционную эстетику документального радио. Используя модернистские техники коллажа, Гульд вторгается в логоцентрические прерогативы разговорного радио, смещая жанр, ориентированный на речь, в сторону чистой музыкальности. В условиях шаткого равновесия между звуком и смыслом, которое становилось все более характерным для авангардного радио, «Трилогия одиночества» Гульда пошла по пути саботажа смысла, чтобы освободить акустическую сторону радио от того, что Гульд считал тиранией языка. Гульд видел в радио возможность использовать человеческий голос в качестве своего рода музыкального инструмента, но достичь этого можно было только с помощью сложного монтажа, в котором документальные сюжеты благодаря смелой практике нарезки пленки были переделаны из лингвистически индивидуализированных сущностей в звуковые типы и тональности. Результатом «контрапунктического» подхода Гульда к радио стал новый способ слушания, в котором семантическое слушание уступило место тональному. Гульд создал радикальную и подрывную модель радиоискусства, которую последующие звукорежиссеры, особенно на Национальном общественном радио в 1970-х и 1980-х годах, использовали для изменения норм институциональной дискурсивной власти.
Эн-пи-ар всегда было прибежищем для людей с мозгами, но с самого начала оно также было пристанищем для грамотных людей с хорошим слухом. Как объясняется в заключительной главе, «журнальный» формат, принятый в программах «Все учтено» и «Утренняя редакция», был кивком в сторону таких признанных литературных изданий, как New Yorker, с его смешением жанров – комментариев, художественной литературы, поэзии, эссеистики, рецензий, юмора, биографий – в качестве модели для вещания. Имея в своем распоряжении девяносто минут, передача «Все учтено» могла с полным основанием побаловать своих слушателей изобретательной смесью новостей, комментариев, сатиры, эссе, пьес и коротких документальных произведений, которая к 1978 году сделала программу культовой. Вместо того чтобы рассказывать новости с первых полос, Эн-пи-ар отдавало предпочтение побочным историям, что питало его интерес к псевдоновостным радиожанрам, таким как комментарии, эссе и документалистика. Эн-пи-ар обладало причудливым голосом задолго до того, как причудливость приобрела культурный статус, и стремление радиостанции к необычным темам позволило сети сохранить приверженность звуку как художественному средству. В 1970-х годах, когда продюсеры Эн-пи-ар принимали решения без оглядки на рейтинги «Арбитрона», авантюризм определял отношение молодой сети к радиоповествованию, напоминавшему о золотых годах радио. В это время Эн-пи-ар удивило даже само себя, наняв Джо Фрэнка (1978) и транслируя эксцентричный «Словесный джаз» Кена Нордина (1980). Авторы, впоследствии ставшие культовыми последователями Джина Шепарда, Фрэнк и Нордин, которые в короткий период 1970-х и 1980-х испытывали границы слушания, хорошо подходили для экспериментов Эн-пи-ар.
В ортодоксальном прочтении истории вещания телевидение – это злодей, покончивший с радио, или, как заявили участники одной поп-рок-группы на MTV
О проекте
О подписке
Другие проекты
